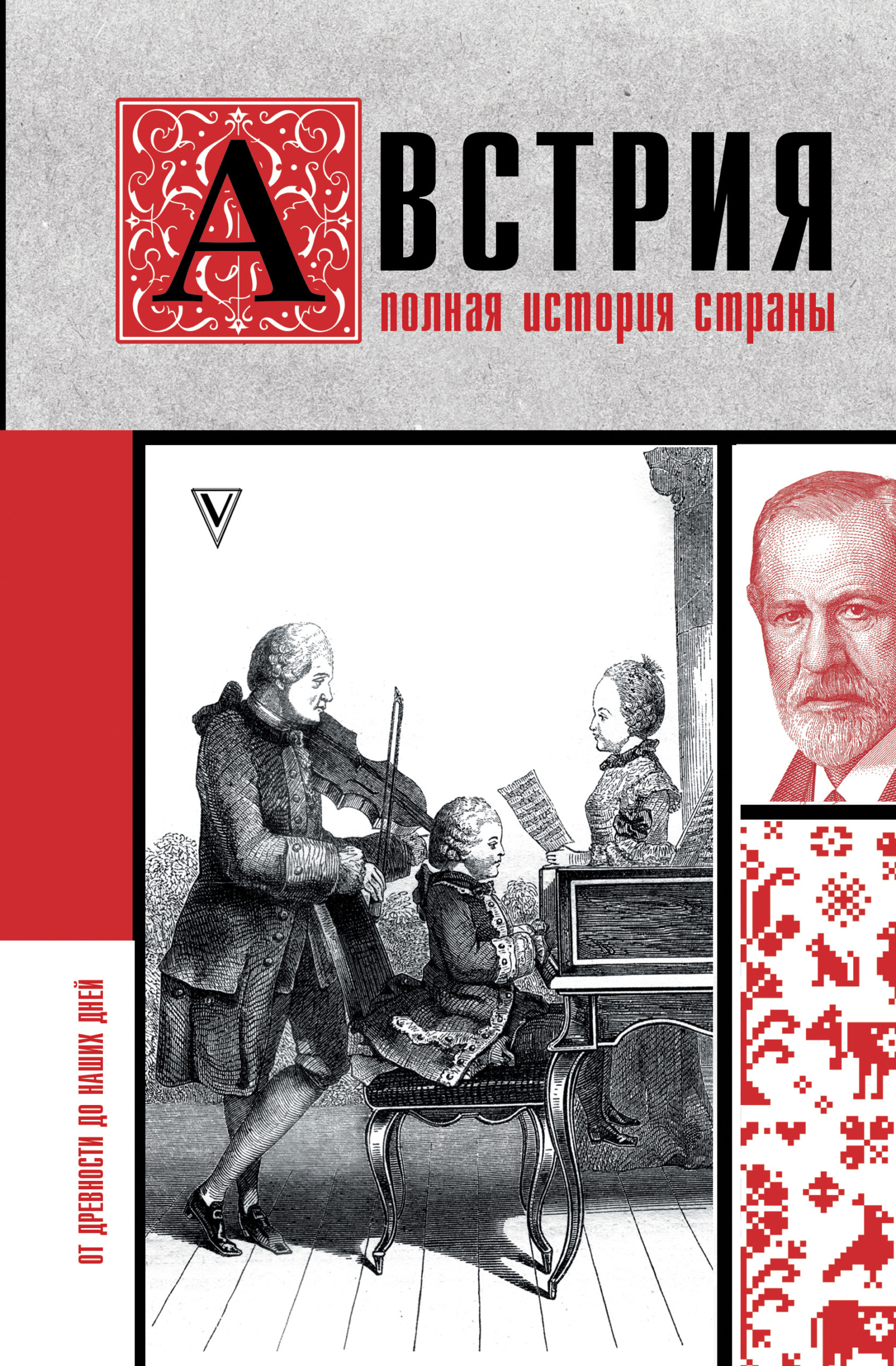Шрифт:
Закладка:
«Лисы и Волки» – мощное городское фэнтези в мрачных декорациях провинциального российского городка.Притягательная, мистическая атмосфера, необычная школа, яркие архетипичные герои, каждому из которых придется сделать нелегкий выбор и сражаться насмерть за своего бога.Секрет могущества богов заключается в их последователях: чем больше людей верит – тем они сильнее. Так они умирают, рождаются и сменяют друг друга.Однако есть другие боги, на которых эти законы не распространяются. И лучше не лезть в их игры, даже если исполняешь роль судьи – над неуправляемыми стихиями суд не имеет власти.Лиза Белоусова – начинающий перспективный автор, культуролог, в творчестве Лизы можно встретить огромное количество отсылок к мифологиям разных народов.