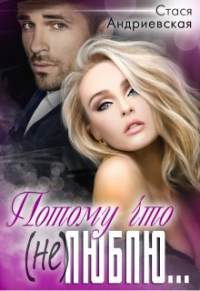Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
Мне «повезло» познакомиться с мужчиной, для которого не существует слова «нет». И судьба, словно издеваясь, постоянно сталкивает нас. И я сдалась под его напором, но есть одно «но»: моя младшая сестра влюблена в него и не собирается отступать.
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Лина Манило»: