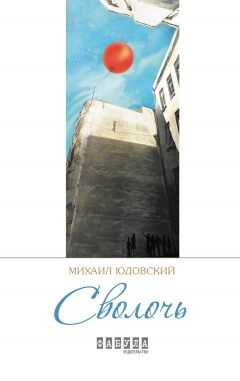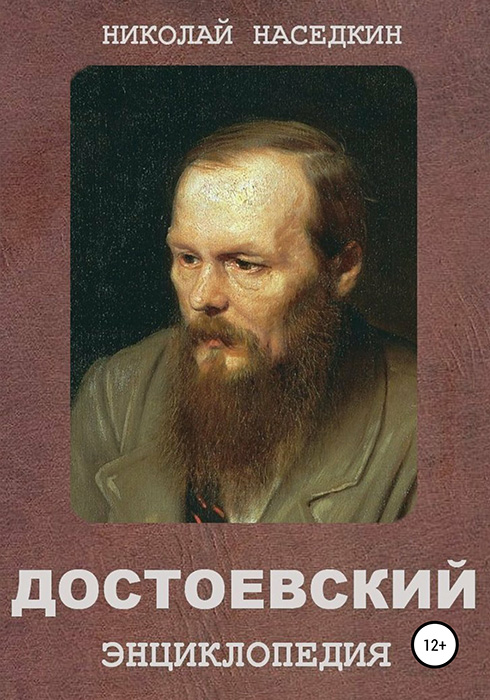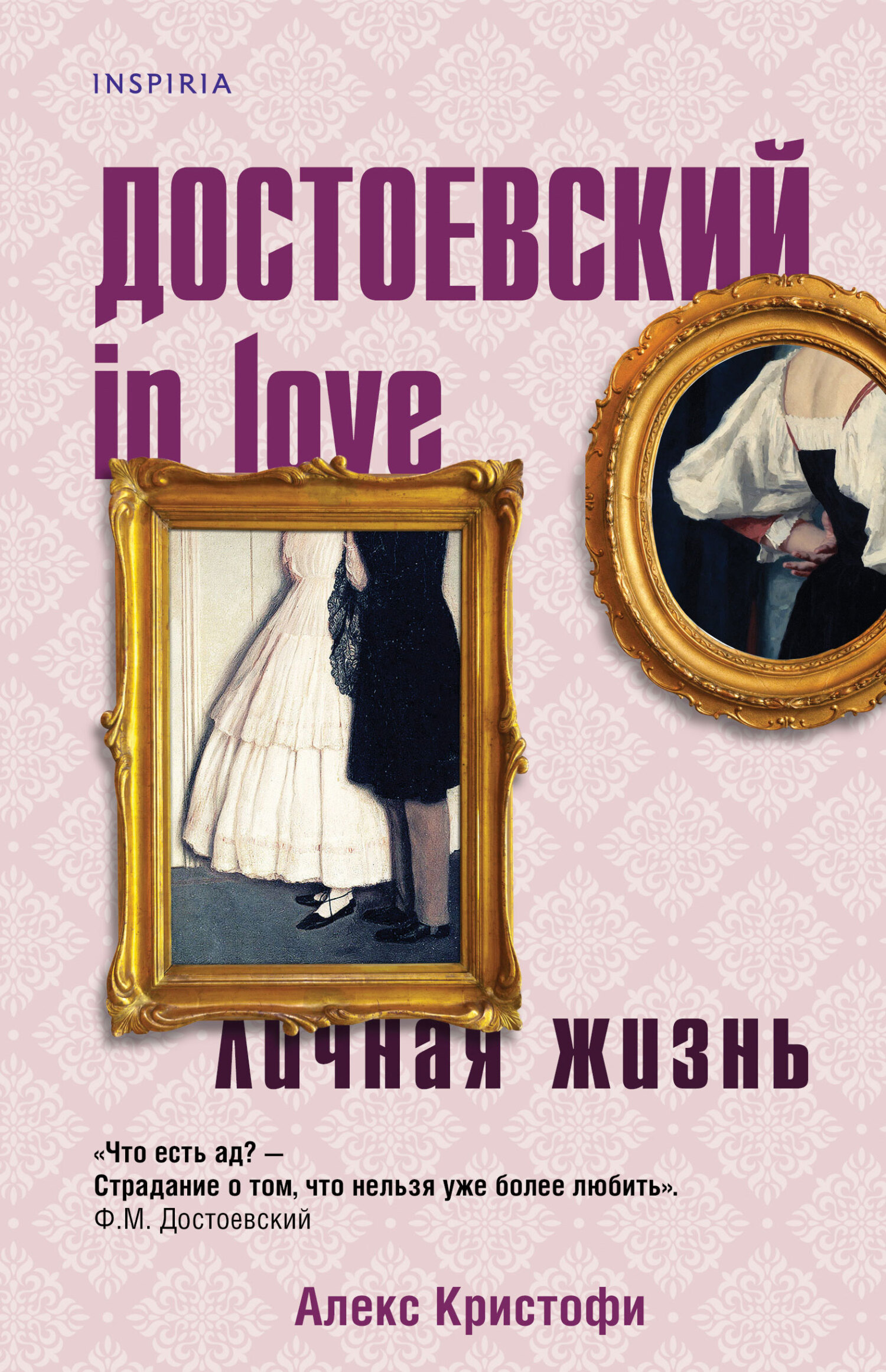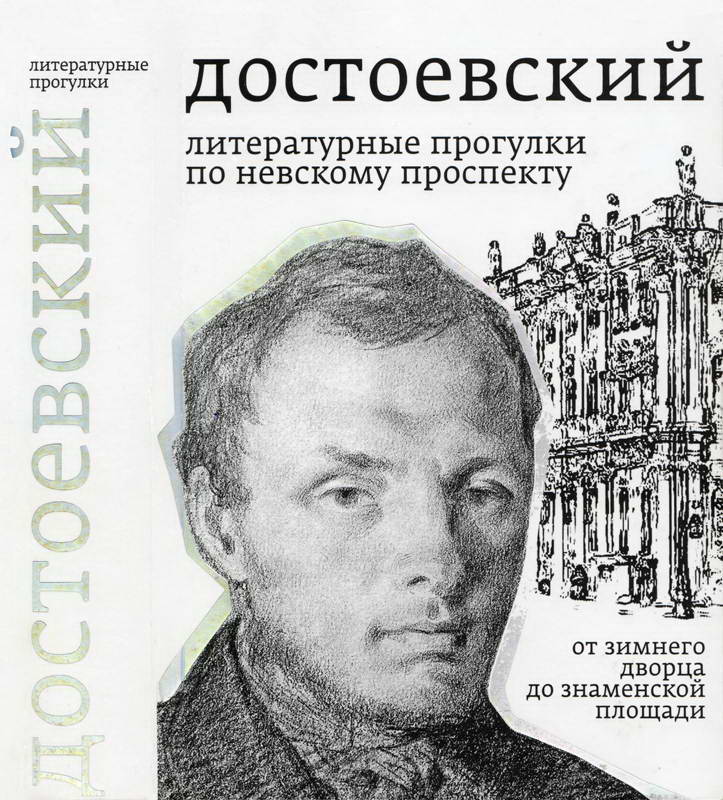Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
Михаил Юдовский — украинский прозаик, поэт, популярный блогер, живущий в Германии. Его проза, собранная в этой книге, — настоящий фейерверк, праздник жизнелюбия и сочного юмора, а ее лирический герой, часто неотделимый от самого автора, временами походит то на рыжего пройдоху-коверного, то на грустного клоуна Пьеро. Точность наблюдений, психологическая глубина и достоверность, виртуозное владение словом — все это доставит читателю истинное наслаждение.
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Михаил Борисович Юдовский»: