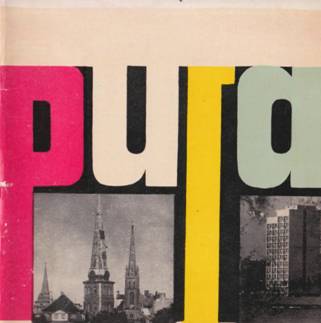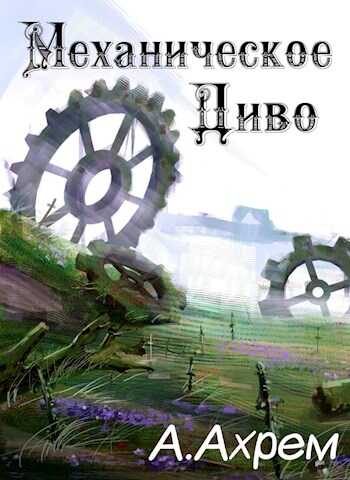Шрифт:
Закладка:
Грустные воспоминания вызвала пожелтевшая карточка, где Анна Анисимовна была снята вместе с мужем. Она — высокая, стройная, в длинной черной юбке и белой кофте, с коротко подстриженными, закрывающими уши волосами, какие носили молодые женщины до войны. Он — чуть пониже ростом, с ежиком волос над широким лбом и в мешковатом суконном костюме в полосочку. Лицо Архипа Даниловича на фотографии расплылось, глаза сделались едва приметны, а вот полосочки на пиджаке проступали четко, будто в них и заключалась вся суть. Даже сейчас, спустя три десятка лет, Анна Анисимовна все еще была в обиде на районного фотографа, который так небрежно обошелся с лицом Архипа Даниловича.
Правда, остались от мужа на память и другие карточки. Никогда не любивший глазок фотоаппарата, робеющий перед ним, на фронте он снимался много раз. Видимо, спешил запечатлеть себя живого в жестоких и непредвиденных обстоятельствах войны… Но Анне Анисимовне дороже всех была та, единственная свидетельница их счастливой и молодой поры. В неотутюженном костюме, с наивно-простым лицом деревенского мужика Архип казался ей понятнее и роднее.
За окном заполоскалось далекое, протяжное мычание. Анна Анисимовна перестала вязать, прислушалась. Мычание донеслось снова, на этот раз сильнее. Она встала, выглянула в окно и сразу зажмурилась. Солнце уже опустилось почти над самым горизонтом и светило прямо в глаза.
— Пойду встречать скотину. И тебе молочка парного опосля принесу, — заторопилась Анна Анисимовна, погладив улегшегося на подоконнике котенка.
Сменив у порога домашние тапки на кирзовые сапоги, она спустилась по невысокому крыльцу в полутемный крытый двор, вытащила из деревянного ларя и поставила на газетку накрытый салфеткой ковш, а рядом положила толстый, мокрый от рассола огурец. Угощение предназначалось для особого сегодняшнего случая. А случаем этим был выгон скота на пастбище. У Герасимовой ходили в деревенском стаде корова и две овцы, и каждую весну, вот в такой же день, она задабривала пастуха медовухой собственного приготовления.
Открылись настежь створки ворот, и во дворе с поленницами дров и горкой слегка зачерневшего сена у хлева сразу посветлело. На улицу Анна Анисимовна вышла, засучив до локтей рукава бордового платья и прихватив хворостину. Привычно посмотрела с высоты пригорка на Марьяновку. Было слышно в вечерней тишине, как гремят во дворах ведра, сплетаются неторопливые мужские и бабьи голоса. Там хозяйки тоже готовились к дойке. Некоторые с хворостинами стояли у своих ворот.
Анна Анисимовна, прислонившись спиной к палисаднику, стала смотреть на лесочек, который от пригорка отделял широкий, с зазеленевшей травкой на неглубоком дне и по бокам, лог. Пастух Никодим Ануфриев каждый год гонит стадо в деревню через этот лог, мимо ее избы. И теперь мычание коров доносилось с той стороны. В просвете меж берез и рябин с едва проклюнувшимися листьями мелькали их пестрые бока.
И вот стадо выплеснулось из лесочка. Впереди черно-белыми клубками катились овцы. За ними беспорядочно брели коровы, стосковавшиеся по хлеву и ласковым окрикам хозяек. Стадо на минуту скрылось в логу, потом разноцветными валами накатило на пригорок, с ходу растекаясь по нему. Раздался оглушительный, как выстрел, удар кнута. Животные испуганно сбились в кучу, пропуская вперед пастуха. И уже шли за ним на почтительном расстояний, то и дело озираясь на извивающийся в майской траве длинный кнут со жгучей хлопушкой из черного конского волоса.
Пастух Никодим поднимался на пригорок со стороны лога, заложив за спину руки, важный и торжественный. На голове его золотилась сдвинутая набекрень соломенная шляпа, на запястье левой руки сверкали часы. Пастух нарочно отогнул рукав пиджака, чтобы встречные заметили блестящий ободок. И сам пиджак, ладно сидевший на его не по-стариковски крепких плечах, был чисто отстиран. И коричневые брюки, заправленные в белые шерстяные носки, хоть и мятые, смотрелись. Ноги у Никодима за день отяжелели, желтые сандалетки скользили по гладкой, как шелк, траве. Но пастух старался держаться прямо и молодцевато. Впалые щеки его были чисто выбриты, и он поминутно поглаживал их ладонью.
«Ишь, вырядился, будто на именины идет», — усмехнулась Анна Анисимовна.
Поравнявшись с ней, Ануфриев приподнял шляпу и весело поздоровался:
— Многие лета тебе, Анисимовна! Как живется-можется? Какие вести шлет Степан из столицы?
— Вести добрые. Обещается скоро в гости приехать.
— Так-так… Давно уж он не был в Марьяновке. Отчего в прошлые лета не приезжал?
— Некогда ему было. Одно лето писал: мама, посылают нас, институтских, в Казахстан хлеб убирать. В другой раз в каникулы чё-то далеконько они строили. А прошлым летом опосля института на работу устраивался, опять домой не мог никак вырваться. Теперича уж все ладно у его, написал недавно, мол, мама, шибко соскучился по Марьяновке…
— Как не соскучиться, — поддакнул пастух. — Тут вырос, босиком по этим вот травкам бегал, водой нашей Селиванки умывался. Родное тянет любого, даже из самой Москвы-матушки. Поскорее бы уж приехал Степан, больно охота на него поглядеть.
Никодим сдвинул на затылок соломенную шляпу, отчего стал моложе, и с хитроватой улыбкой опять подбавил огня:
— Доброго молодца ты вырастила. Вон куда — аж до самой столицы пробился своим умом. Из всей Марьяновки, кажись, он там один-единственный. А ежели еще учесть его докторскую специальность, то тебе, Анисимовна, вовсе царицей надобно ходить по тутошним дорожкам да улочкам.
Анна Анисимовна, конечно же, догадывалась, куда гнет Никодим льстивыми речами. Всякий раз, встретив ее у ворот, пастух принимается усиленно расхваливать Степана и житейский опыт самой хозяйки, явно рассчитывая на радушие и гостеприимство. И Анна Анисимовна не может сердиться на него. Приятно ей слушать рассуждения Ануфриева насчет Степановых удач. Так приятно, что не может удержаться, расплывается в улыбке. И на этот раз она нарочно тянула с угощением, ждала расспросов о сыне.
А Никодиму уже не терпелось. Поблекшими, но еще зоркими глазами понукал хозяйку во двор, где, как он догадывался, застоялась в ковше янтарная медовуха. И озирался одновременно с беспокойством: коровы быстро обтекали его, устремляясь с пригорка в Марьяновку. А пастуху очень уж хотелось войти в деревню не в хвосте, а в голове стада, чтобы и другие бабы про себя отметили его усердие и тоже угостили бы.
— Так-так… Значится,