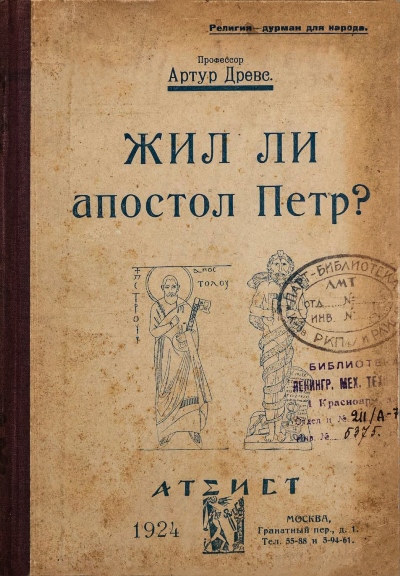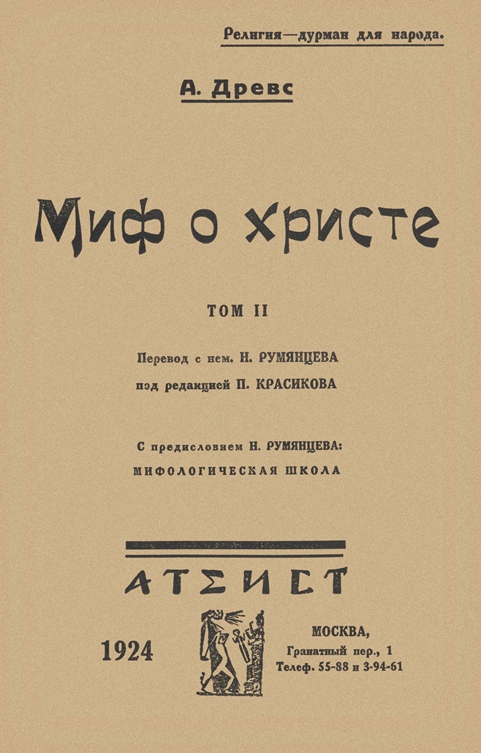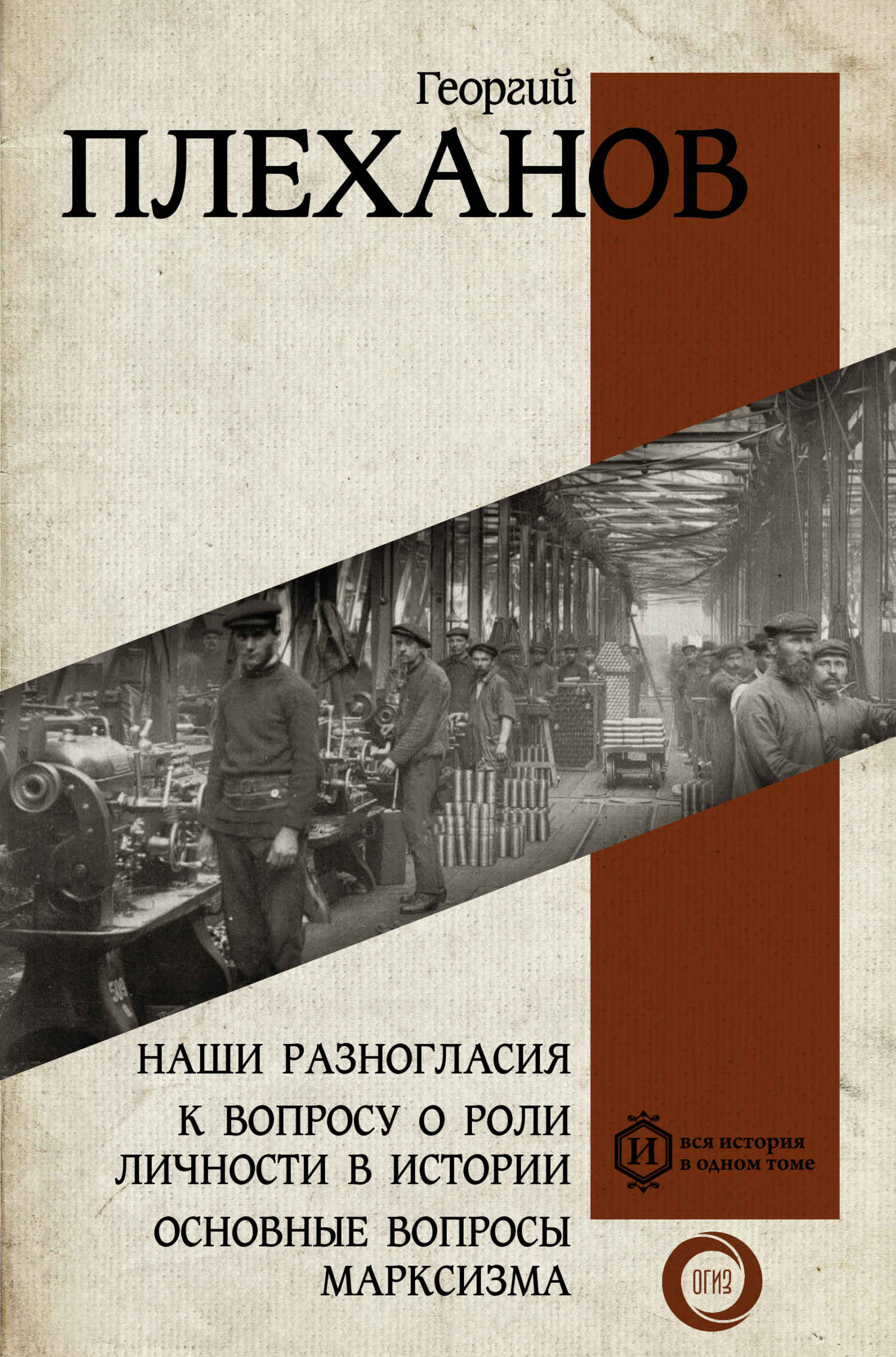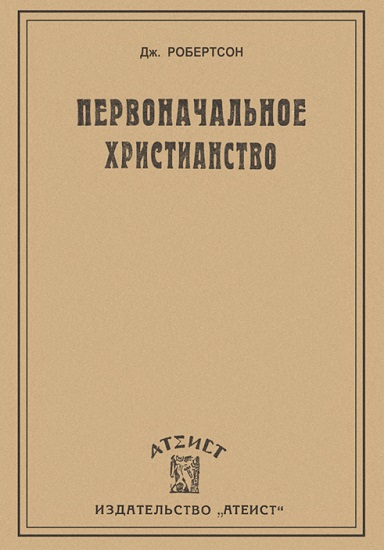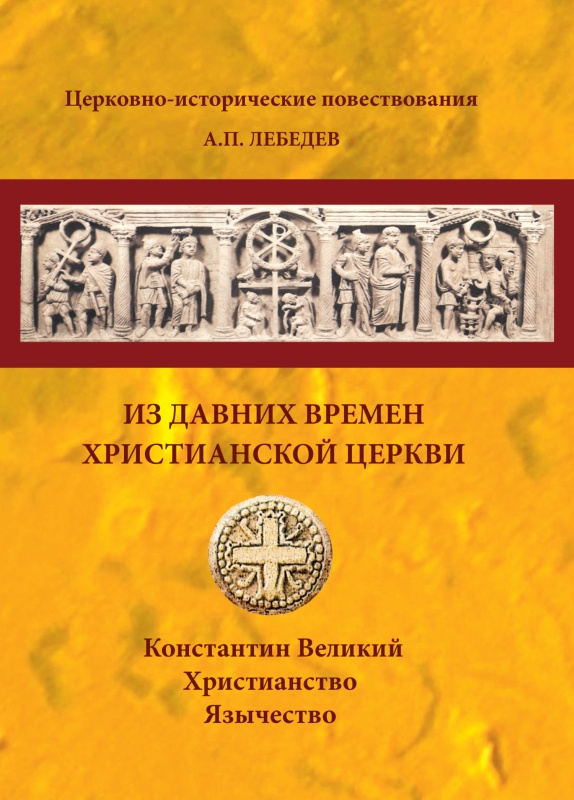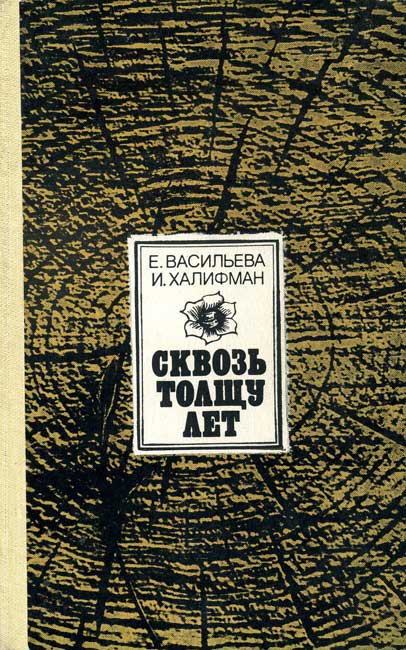Шрифт:
Закладка:
Артур Древс (1865-1935) - немецкий философ, писатель, ученик Н. Гартмана, наряду с Б. Бауэром, А. Кальтхофом и др. принадлежит к известным немецким полемистам, отрицающим реальность существования Иисуса Христа в истории. Его произведение «Миф о Христе» (1909) вызвало многочисленные открытые дискуссии, широкие протесты христианской общественности и резкую критику со стороны историков, богословов, экзегетов всех конфессий, исследователей Нового Завета. В течение более десятилетия «Миф о Христе» не сходил с книжного рынка. Только в Германии к 1924 г. вышло 14 его изданий. Книга была переведена на многие языки, в том числе и на русский, но в дореволюционной России она не увидела света: по решению царской цензуры перевод был сожжен. Работы Древса с купюрами неоднократно издавались в СССР в 20-х годах как произведения, частично отвечающие задачам советской антирелигиозной пропаганды. «Миф о Христе» оказал существенное влияние на советскую историографию раннего христианства и формирование взгляда на данную проблему ряда советских ученых, сделав их приверженцами мифологической теории происхождения христианства. По характеристике И. А. Крывелева: «Древс стремился отнюдь не к разоблачению религии, а к замене скомпрометировавших себя религиозных предрассудков новыми, более утонченными. Но независимо от своих субъективных побуждений он выполнил объективно полезное и прогрессивное дело — собрал все материалы, свидетельствующие против исторического существования Иисуса Христа, и изложил в систематизированном виде всю аргументацию сторонников мифологической школы». Во второй части, выявляется истинная природа евангельского героя и разбирается возражения против отрицания историчности Иисуса. В результате всего исследования выясняется, что евангельские и вообще новозаветные источники знают только «миф о христе», Иисуса мифического, никогда не существовавшего, а не историческую, реальную личность.