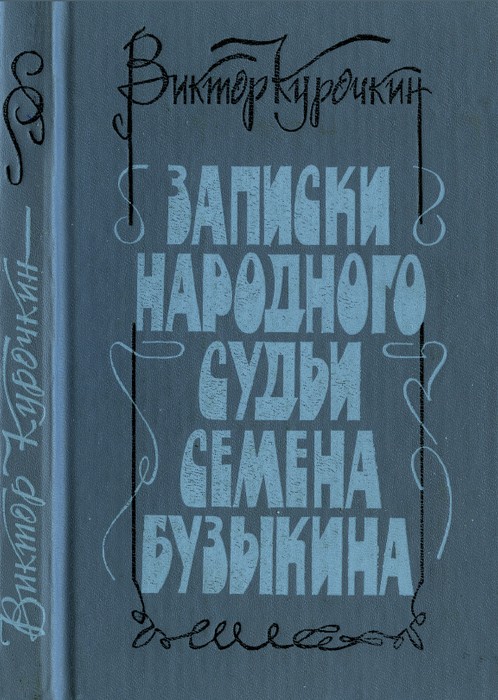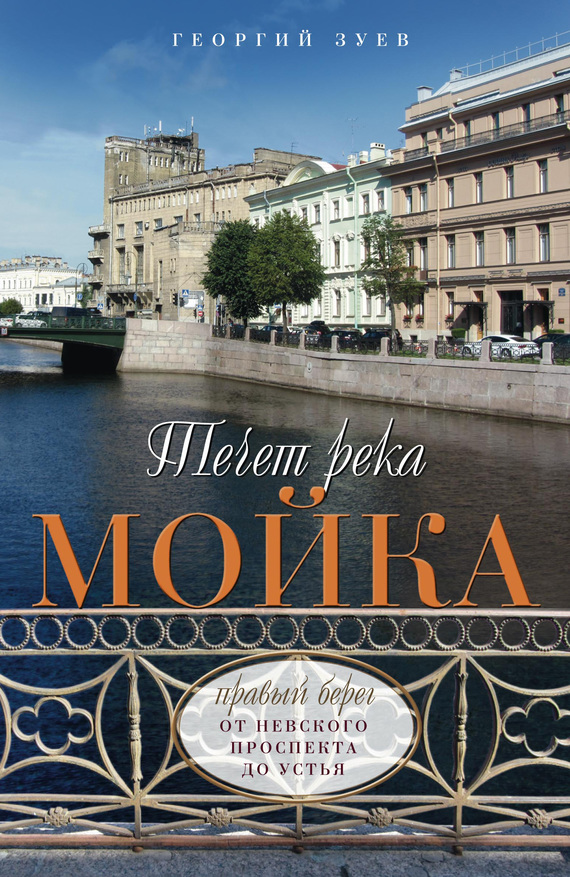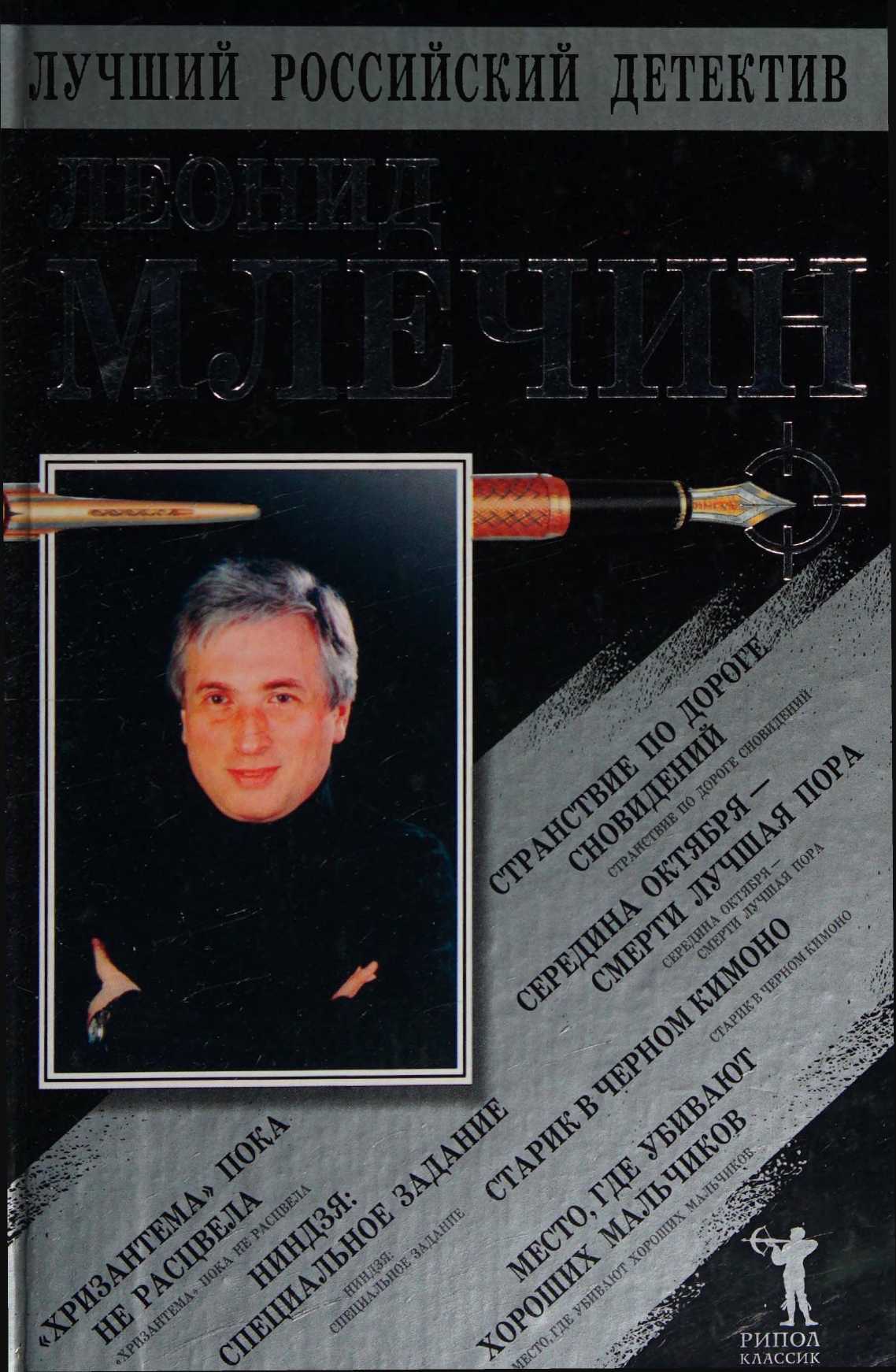Шрифт:
Закладка:
Записки народного судьи Семена Бузыкина - это повесть, основанная на реальных событиях из жизни автора, Виктора Курочкина. В 1949-1951 годах он работал народным судьёй в посёлке Уторгош, где ему приходилось сталкиваться с разными людьми и их проблемами. Он рассказывает о своих забавных и трагических приключениях, о своих коллегах и подсудимых, о своих взглядах на жизнь и справедливость. Повесть написана с юмором и иронией, но также с большой любовью к своей родине и её жителям.
Эта книга - не только интересное литературное произведение, но и ценный исторический документ, который показывает быт и нравы советского общества в послевоенное время. Курочкин не стесняется показывать как светлые, так и тёмные стороны жизни в СССР, не приукрашивая и не осуждая реальность. Он пишет о войне и мире, о дружбе и вражде, о любви и ненависти, о вере и сомнениях.
Если вы хотите узнать больше о том, как жили и чувствовали народные судьи в СССР, то эта книга для вас. Вы можете читать книгу онлайн на сайте knizhkionline.com, где вы найдёте полный текст повести, а также другие произведения Виктора Курочкина. Приятного чтения! 😊