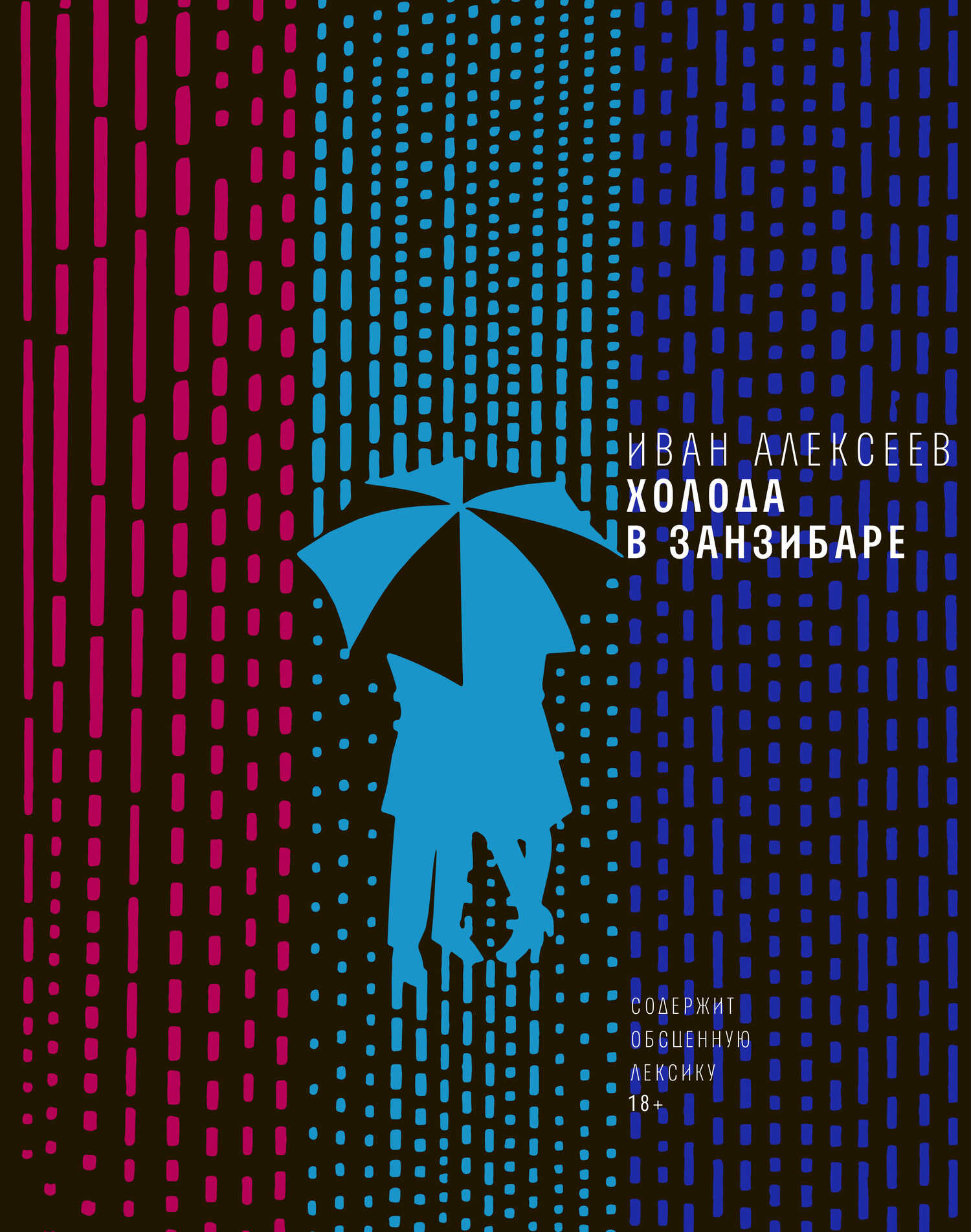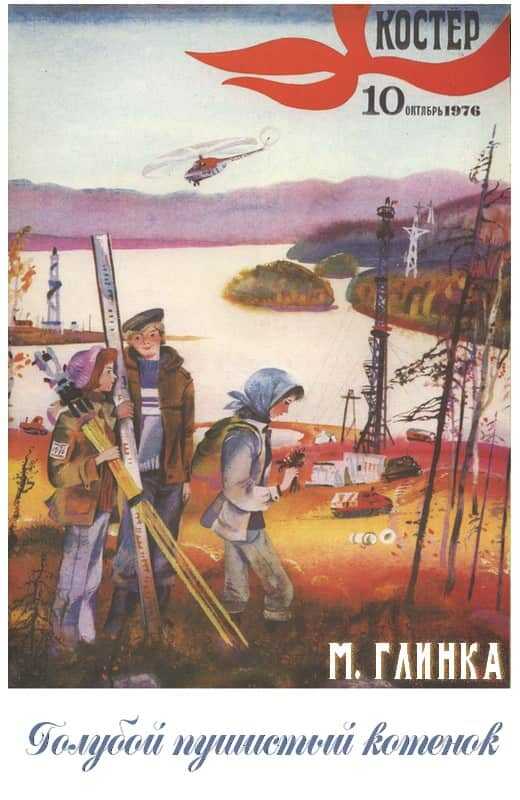Шрифт:
Закладка:
Встречались у библиотеки, чаще утром, после ее ночного дежурства. Внутрь она не заходила, ждала на улице, на морозе, он только потом понял, что она стесняется своего пальто – такие или почти такие в те времена длинными скучными рядами висели во всех универмагах (каждую встречную дубленку ты провожала пристальным взглядом, как бы прикидывая на себя, – тебе хотелось из ламы, канадскую). С остальным барахлом у нее был, казалось ему, полный порядок – джинсы, свитерки, водолазки, некоторые вещи – в два оклада, но такое тогда было время – зарабатывали мало, но как-то умудрялись более или менее прилично одеваться.
С первой же минуты встречи их охватывала спешка, лихорадочная, словно боялись опоздать, хотя никакой другой цели, кроме удачи прожить день вместе, не было. Взявшись за руки, они бежали за уходящим троллейбусом, согревались в полутемных, с вытоптанными лестницами подъездах, где чуть теплились батареи, и он дышал на ее собранные в горсть пальцы, растирал онемевшие колени (даже в эти лютые морозы ты ходила в капроне), а потом жадно целовались, вздрагивая от гулких хлопков лифтовой двери. Они как будто уходили от погони, путали следы, отсиживая сеансы в пустых кинотеатрах, снова бежали, перекусывали в забегаловках с окнами, мохнатыми от инея, где на раздаче мелькали распаренные до красноты толстые лица и руки, а под вечер скрывались в каком-нибудь баре – любимым был «дверь в стене» на Тургеневской.
Высокие, вдоль кирпичной стены, обмерзшие ступени, клуб пара в лицо, полутемный тесный вестибюль с запахом мочи и хлорки. Как только хромой гардеробщик, выдав номерок, уносил синее, с бедной цигейкой пальто, у нее появлялась державная осанка, снисходительный из-под ресниц взгляд, и, чуть задержавшись у зеркала, взволновав гребнем распущенные по плечам волосы, она приветливо – по праву завсегдатая – кивала двум, уже под градусом, мордоворотам с повязками на рукавах.
У ярко освещенной стойки усаживались на высокие красные табуреты, слушали музыку и ждали коктейли. Абсолютно лысый бармен отражался спиной в зеркальных стеллажах, заставленных коллекцией пустых бутылок из-под «Смирнофф», «Чинзано», всевозможных бренди, джинов и виски. Задевая о стол круглым животом, туго обтянутым фирменной, на кнопочках рубашкой, он, насвистывая, отмерял ингредиенты: журчало, позвякивало, булькало, чуть заметно приподнимались полные плечи с погончиками, шевелились над маленькими глазками брови[45]. Два бокала с соломинками (ты предпочитала «Шампань Коблер»), порция орешков, пачка сигарет, иногда шоколадка. Уголок выбирали потемней, столик у стены, чтобы не подсаживались. Тянули через соломинки, смотрели друг на друга и по сторонам: вон тот, пожилой, с герлой, заштукатуренной, как стенка, поэт и философ, те, в забойной джинсе, – гомики (ты презрительно передергивала плечами), тот, с тремя сразу, – бывший спортсмен, кажется футболист, а вон тот, да нет, в углу за колонной, ну видишь, совсем глаза в кучу, – стукач. На дне бокала оставались ягодки – иногда, запрокинув голову (волна волос срывалась с плеч), ты вытряхивала их в широко открытый рот, а иногда меланхолически присасывала вишенки соломинкой.
Потом коктейли повторяли – два раза по два тридцать шесть. Негромкая музыка, гул голосов, пятна лиц сквозь мутный, как зацветшая вода, воздух. В медлительных водорослях дыма то там, то тут вспыхивали огоньки, и сигареты, чинно ткнувшись в них рыльцами, степенно расплывались в стороны… Им было хорошо в этом подводном, полном притворства мире, но наступала минута, когда приходилось расставаться, но в ней не звучала та неизбежная у любовников нотка пошлости, потому что между ними не было ничего – он не срывал цветка, а, как пчела, лишь собирал нектар. И она возвращалась в свой мир, где навстречу оседлавшей мотоцикл японке шла, легко ступая по облакам, мадонна с младенцем, а он, пьяный радостью несовершенного греха, – в свой, помазанный елеем окуджавских песенок, к книжкам, что приходили только на одну ночь, к диссонансам Бриттена, к запаленному дыханию любви с Галей – никогда с женой он не был так отчаянно близок, как в ту аномально морозную зиму. Галя так и не узнала, что получала то, что принадлежало другой.
Вскоре зима смягчилась. Он помирился наконец с книгами, и они благодарно запестрели «ятями» и «ерами». Тема диссертации за зиму сделалась полупроходной, но это неожиданно добавило уважения к самому себе, а у нее появилась дубленка, как хотела, из ламы, и в Кривоколенном переулке, поднимаясь по лестнице (во втором пролете одна ступенька была выше других, и он споткнулся), он думал, что она стоит дорого, слишком дорого, невероятно дорого. Четыре коротких звонка, коридор, комната с уютно застеленной чистым бельем кроватью. Подружка – полненькая, с плохими зубами и нервным, глуповатым смешком – тут же бесследно исчезла. Это была ловушка, щемяще бесхитростная, настолько детская, что захотелось удочерить: нежно обняв, уткнулся в травяной запах волос, шепнул, что пора замуж, за хорошего человека, за очень хорошего, потому что она, как никто на этом свете, достойна счастья[46].
Первый женишок, троечно-жилеточный вдовец с блестящими залысинами, изъяснявшийся на треть по-английски, обронил, что, если ее приодеть, айм сори, всем мидовским крысам до нее будет как фонарю до Эйфелевой башни. Обхамила на всю катушку, а под занавес вылила на его брюки кофе (в среднем, разумеется, роде). Второй, его старинный со школы приятель, проведя с ней вечер наедине, потом не звонил мне несколько лет[47].
Затея с замужеством провалилась, и все вернулось на круги своя – жирные чебуреки на Хмельницкого, блинчики на Кировской, яичница в «Русском чае», пустые залы кинотеатров, подъезды с вытоптанными лестницами, «дверь в стене», «Шампань Коблер», порция орешков и пачка сигарет. Умер Джорджи – незадолго до закрытия (уже вырубили музыку) у него пошла ртом кровь. На другой день после его смерти они догнали троллейбус[48] – тот уже тронулся, но скованные морозом двери не закрылись, и они впрыгнули на ходу. Шаткий корпус трясся, звенел плохо скрученными частями, в дверном проеме, извиваясь, бежал шершавый сугроб. Слепые, в старом омозолелом инее окна не знали цензуры: простодушные отпечатки ладоней соседствовали с грудастыми ню. Долговязый водитель с впалыми щеками и длинным белым носом долго чиркал спичками, пока газеты, напиханные в масленую черноту механизма дверей, дымно занялись. Ее голое, ненакрашенное лицо (ты смыла его в туалете бара) ответило огню красным отблеском – такое же голое лицо