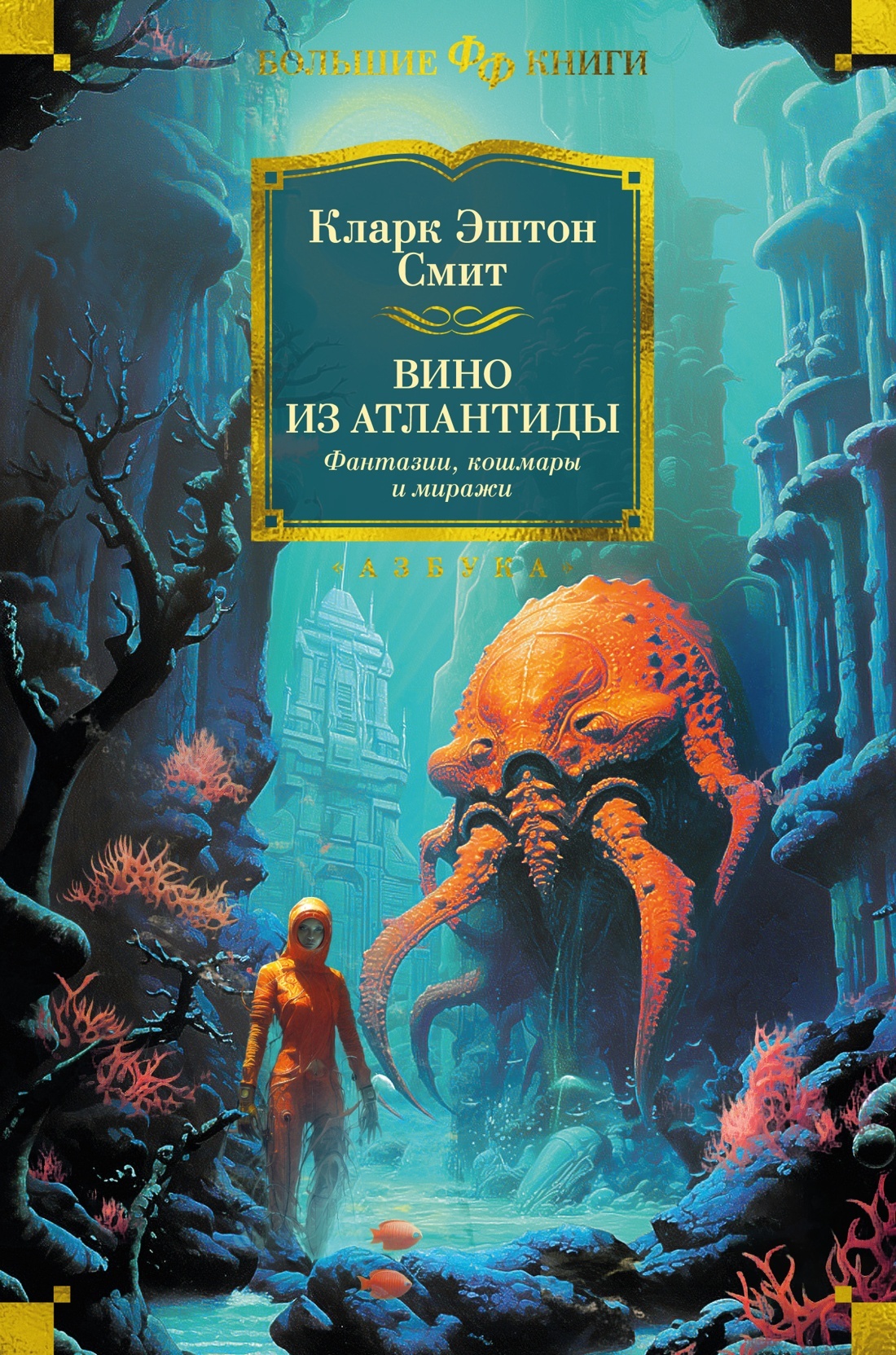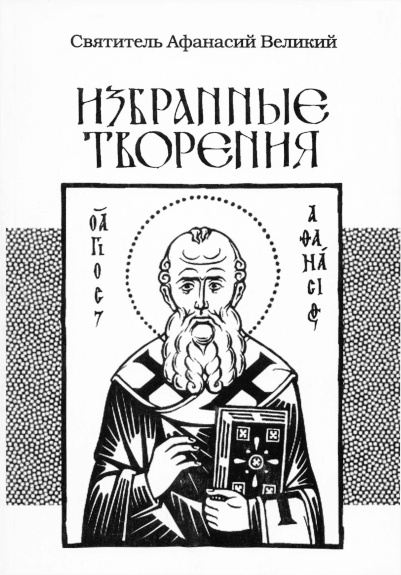Шрифт:
Закладка:
Умопомрачительные неведомые планеты, давно исчезнувшие или еще не возникшие континенты, путешествия между мирами и временами, во времени и в безвременье, гибельные леса и пустыни, страшные твари из далеких галактик, демоны-цветы и демоны-трупоеды (угадайте, кто страшнее), древние волшебницы и честолюбивые некроманты, рискующие и душой, и телом, а также оборотни, вампиры, восставшие из мертвых, безымянные чудовища, окаменевшие доисторические кошмары и оживающий камень… Кларк Эштон Смит (1893-1961) – один из трех столпов «странной фантастики» 1930-х (вместе с Робертом И. Говардом, создателем Конана, и, конечно, творцом «Мифов Ктулху» Говардом Филлипсом Лавкрафтом, в чьих рассказах вымыслы Смита то и дело гостят), последователь Эдгара Аллана По и Амброза Бирса. Он переплавил фантастику в последнем огне романтической поэзии и дошел до новых пределов подлинного ужаса – так мир узнал, какие бесконечные горизонты способны распахнуть перед нами и фантастика, и хоррор, и Смиту очень многим обязаны и Рэй Брэдбери, и Клайв Баркер, и Стивен Кинг.В этом сборнике представлены рассказы 1925-1931 годов; большинство из них публикуются в новых переводах.