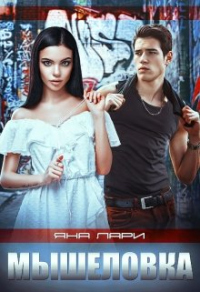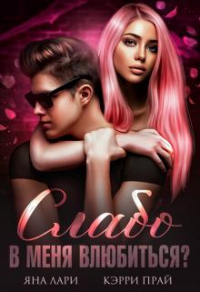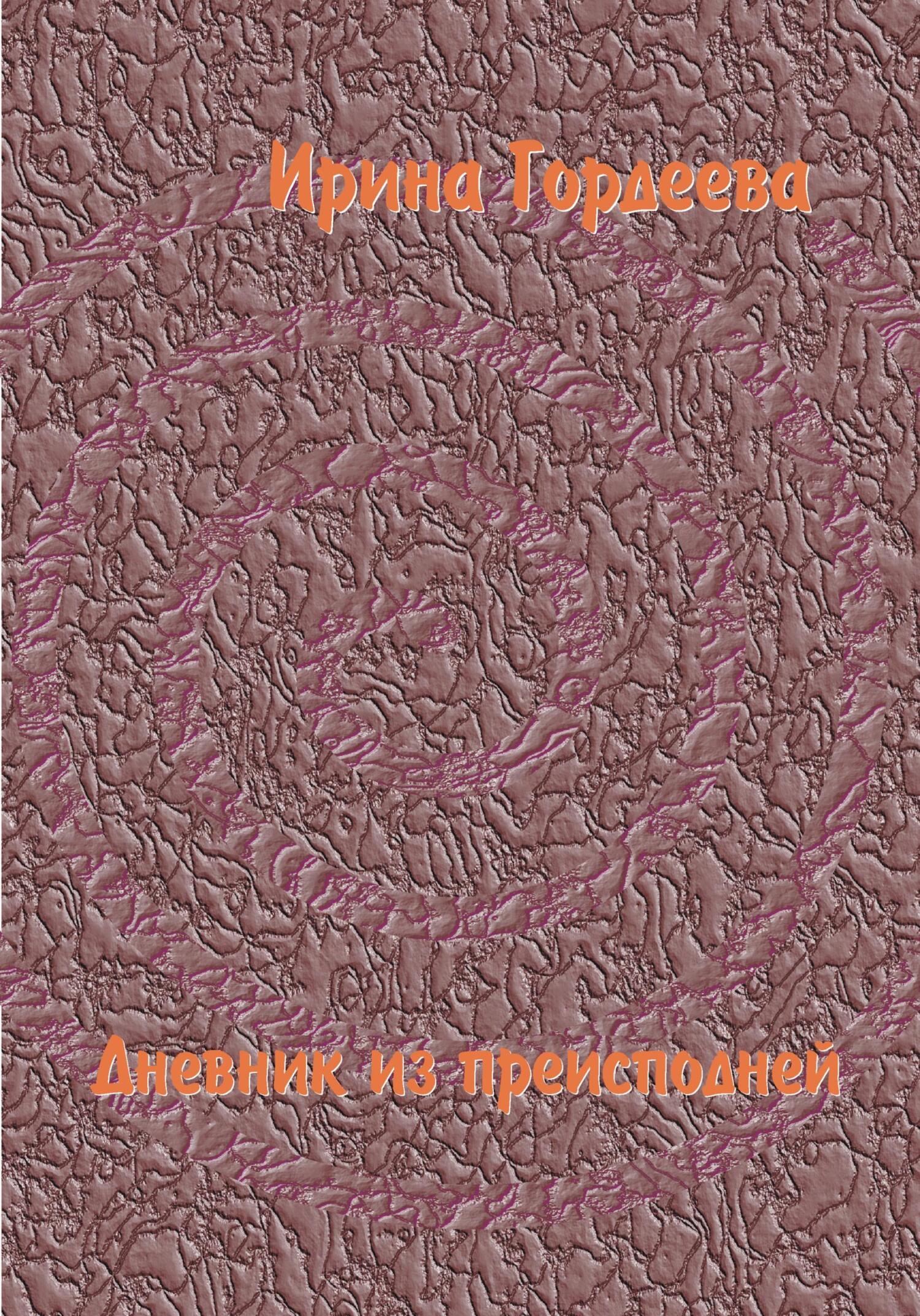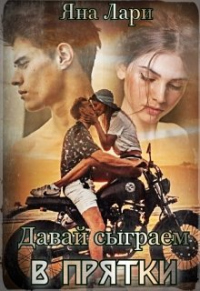Шрифт:
Закладка:
Мышеловка - это захватывающий триллер от известной писательницы Яны Лари, автора бестселлеров “Смертельная игра” и “Красный код”. В центре сюжета - молодая журналистка Алиса, которая расследует серию загадочных убийств в Москве. Все жертвы - мужчины среднего возраста, которые были найдены мертвыми в своих квартирах с отрезанными ушами и хвостами. Похоже, что кто-то охотится на них как на мышей. Но кто и зачем?
Алиса пытается найти ответы на эти вопросы, не подозревая, что сама становится частью опасной игры, в которой она - не охотник, а добыча. Кто-то следит за каждым ее шагом, подкидывает ей подсказки и ловушки. Кто-то, кто знает все ее секреты и слабости. Кто-то, кто хочет ее смерти.
Мышеловка - это книга, которая не даст вам скучать ни на минуту. Это книга, которая заставит вас держать дыхание до последней страницы. Это книга, которую вы можете читать онлайн на сайте knizhkionline.com. Но будьте осторожны: вы можете попасть в мышеловку!