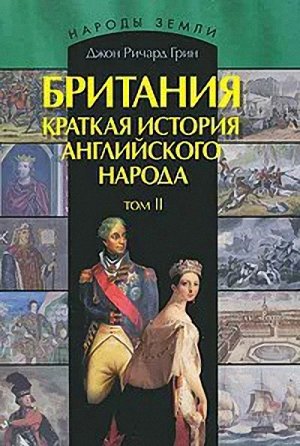Шрифт:
Закладка:
Завораживающий роман о мрачных семейных тайнах, женской мести и восхождении с самого дна на фоне разрушительного землетрясения в Сан-Франциско в 1906 году.После смерти матери Мэй Кимбл без гроша в кармане живет одна, пока тетя, о существовании которой та не подозревала, не увозит ее в Сан-Франциско. Там Мэй приветствуют в богатой семье Салливанов и в их кругу общения.Поначалу ошеломленная богатством новой жизни, постепенно Мэй понимает, что в закоулках особняка Салливанов скрываются темные тайны. Ее очаровательная кузина часто исчезает по ночам. Тетя бродит одна в тумане. А служанка постоянно намекает, что Мэй в опасности. Попав в ловушку, Мэй рискует потерять все, включая свободу.Затем ранним апрельским утром Сан-Франциско рушится. Из тлеющих руин Мэй отправляется в мучительный путь, чтобы вернуть то, что ей принадлежит. Этот трагический поворот судьбы, наряду с помощью бесстрашного журналиста, позволит Мэй отомстить врагам. Но использует ли она этот шанс?