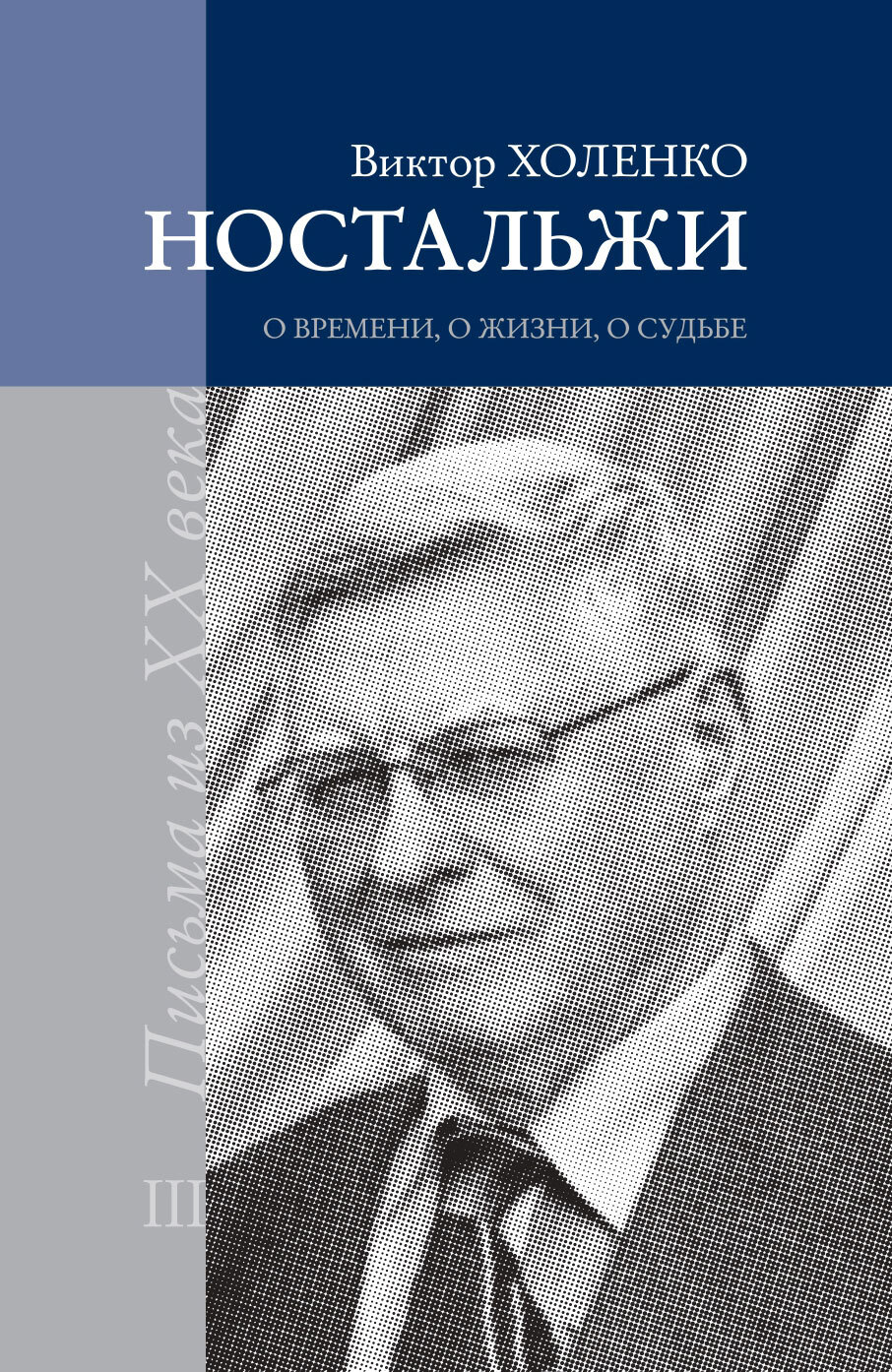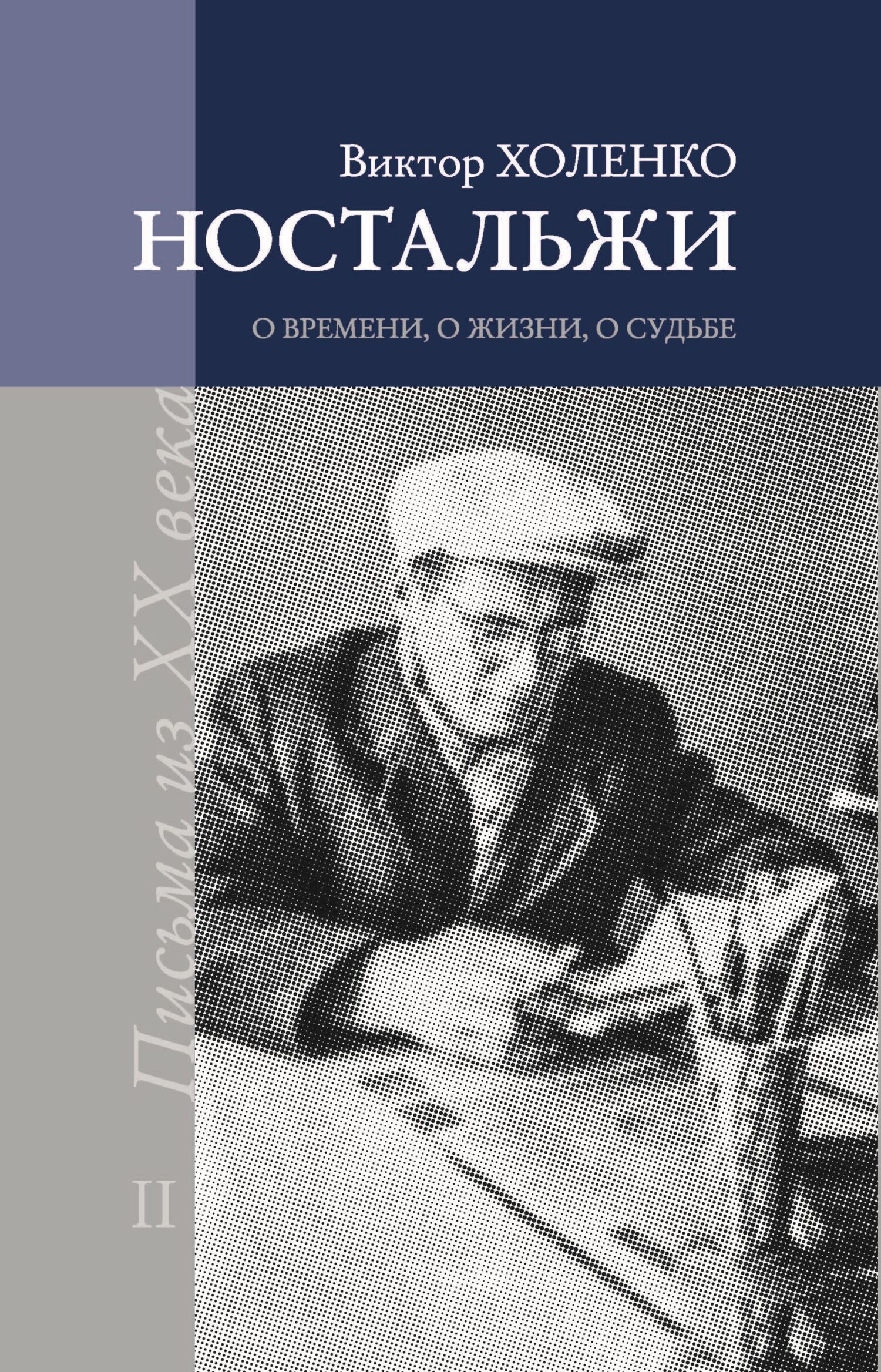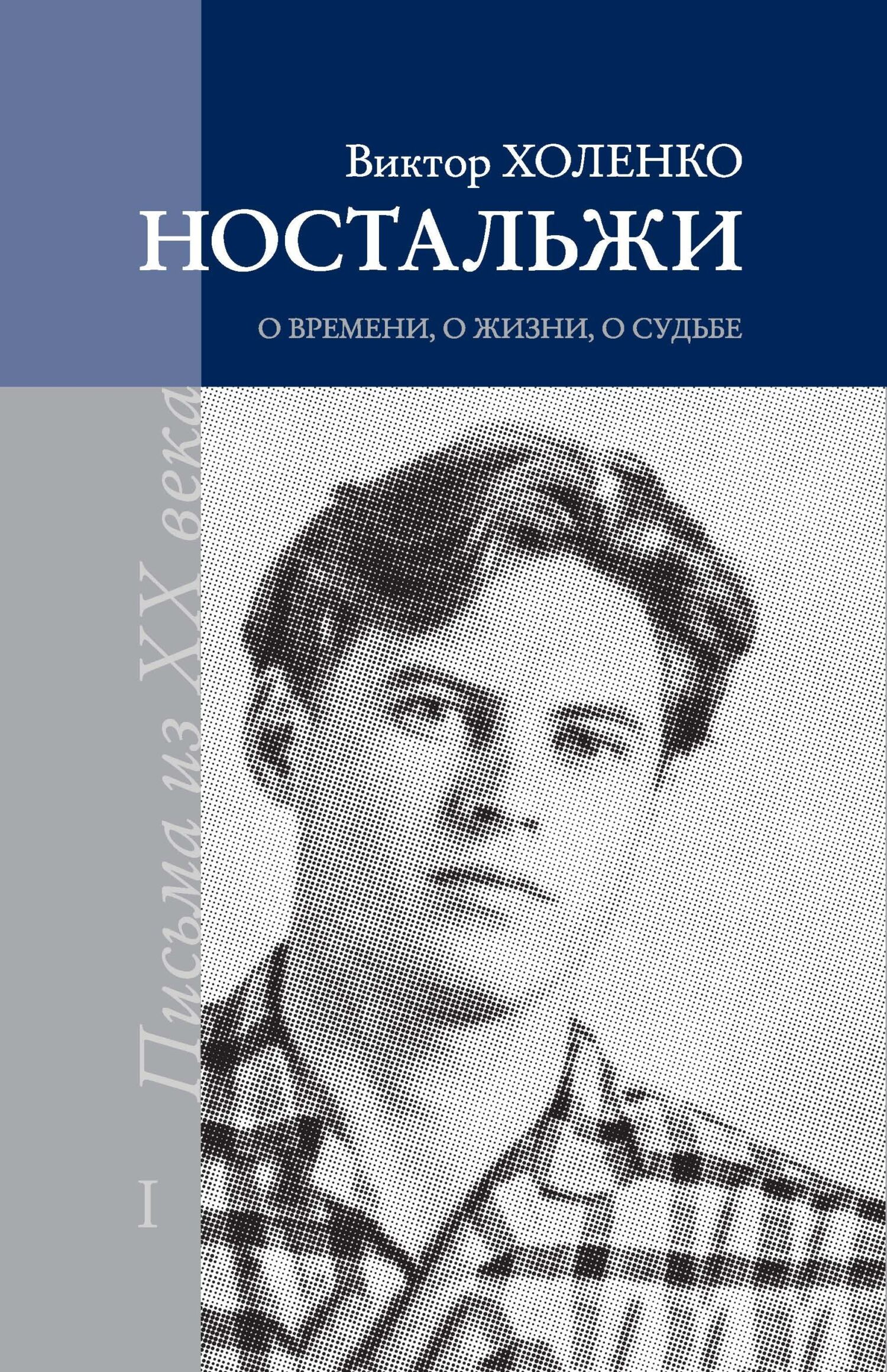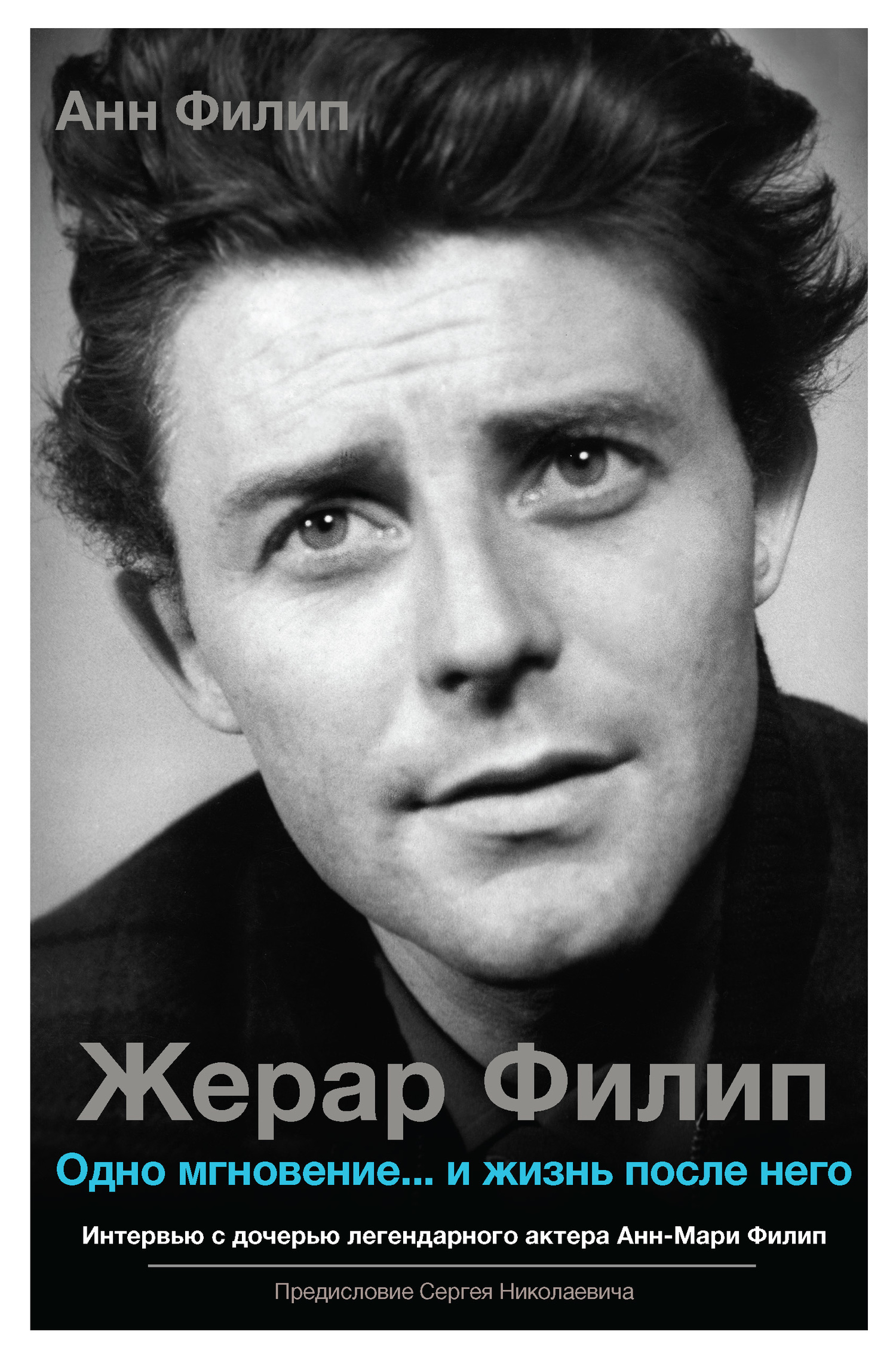Шрифт:
Закладка:
В повести-эссе «О времени. О жизни. О судьбе» журналист Виктор Холенко, рассказывая, казалось бы, частную историю своей жизни и жизни своей семьи, удивительным образом вплетает судьбы отдельных людей в водоворот исторических событий целых эпох -времён Российской империи, Советского Союза и современной России.Первый том охватывает первую половину XX века жизни героев повести-эссе – в центральной России, в Сибири, на Дальнем Востоке. Сабельная атака времен Гражданской войны глазами чудом выжившего 16-летнего участника-красноармейца, рассказы раненых бойцов морского десанта, выбивших японцев из Курильских островов, забытые и даже специально уничтоженные страницы послевоенной жизни в дальневосточной глубинке, десятки известных и неизвестных прежде имён – живые истории людей в конкретную историческую эпоху.В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.