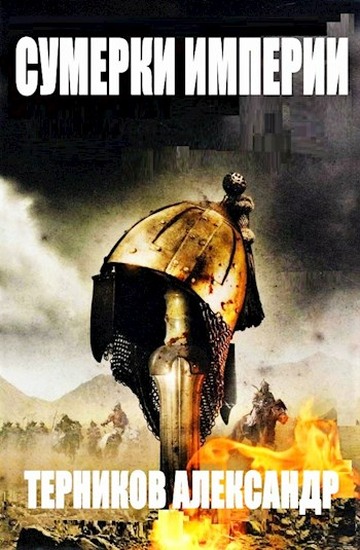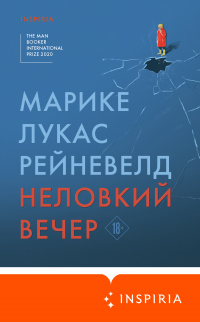Шрифт:
Закладка:
Славу мастера малой прозы Асар Эппель завоевал еще в девяностых, опубликовав сначала за границей, а потом и в России две книги рассказов «Травяная улица» и «Шампиньон моей жизни», переведенные во многих странах Европы. Затем последовали «Дробленый сатана», «Сладкий воздух и другие рассказы» и высокие награды за литературную деятельность, которые Асар Эппель — блестящий переводчик Исаака Башевиса Зингера, Бруно Шульца, Генрика Сенкевича, Брехта, Киплинга — получал и прежде: офицерский крест польского ордена Заслуги, медаль «За заслуги перед польской культурой», премии журналов «Иностранная литература» и «Знамя», премия имени Казакова и др. «Латунная луна» — новое собрание рассказов в мгновенно опознаваемой «эппелевской» манере. Это тонкие, виртуозно написанные, печально-веселые романы в миниатюре, где есть эротика и фантастика, завораживающие персонажи, удивительная атмосфера и странные, неожиданные сюжеты. «Латунная луна» вошла в список финалистов Национальной литературной премии «Большая книга» 2010 года.