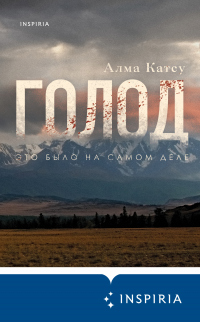Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
Эрик Вейнер сочетает свое увлечение философией с любовью к кругосветным путешествиям, отправляясь в паломничество, которое поведает об удивительных уроках жизни от великих мыслителей со всего мира — от Руссо до Ницше, от Конфуция до Симоны Вейль. Путешествуя на поезде (способ перемещения, идеально подходящий для раздумий), он преодолевает тысячи километров, делая остановки в Афинах, Дели, Вайоминге, Кони-Айленде, Франкфурте, чтобы открыть для себя изначальное предназначение философии: научить нас вести более мудрую, более осмысленную жизнь. От Сократа и древних Афин до Симоны де Бовуар и Парижа XX века избранные автором философы и места становятся важными ориентирами в современном хаотичном мире. В «Философском экспрессе» Вейнер приглашает нас отправиться в путешествие за мудростью, в котором мы вместе попытаемся найти ответы на наши самые заветные вопросы.
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Эрик Вейнер»: