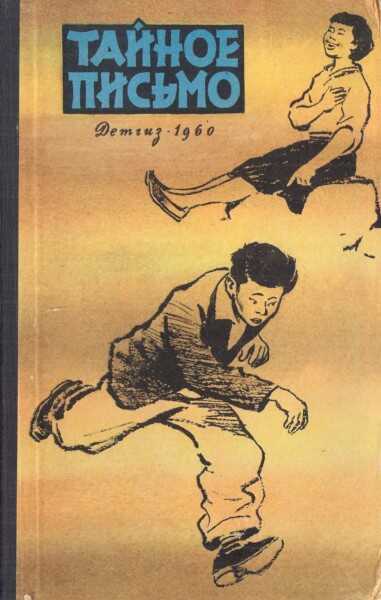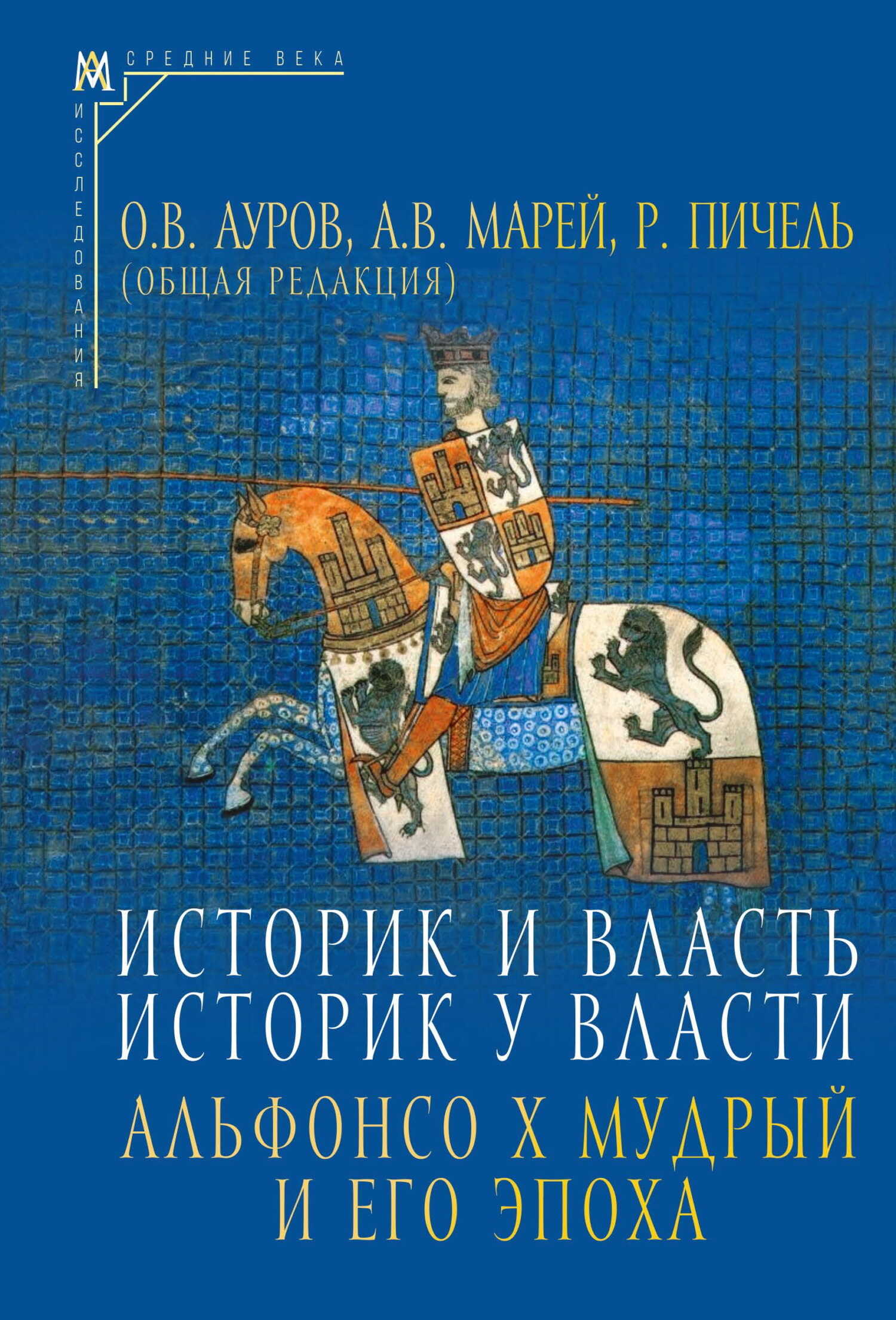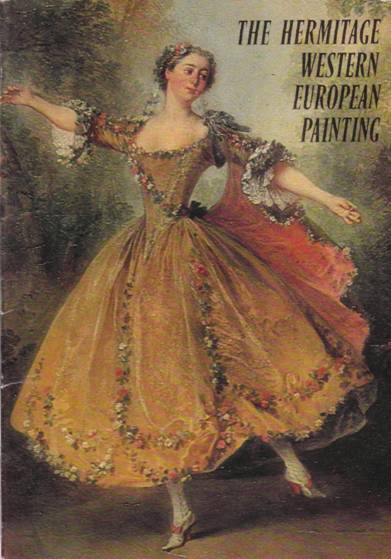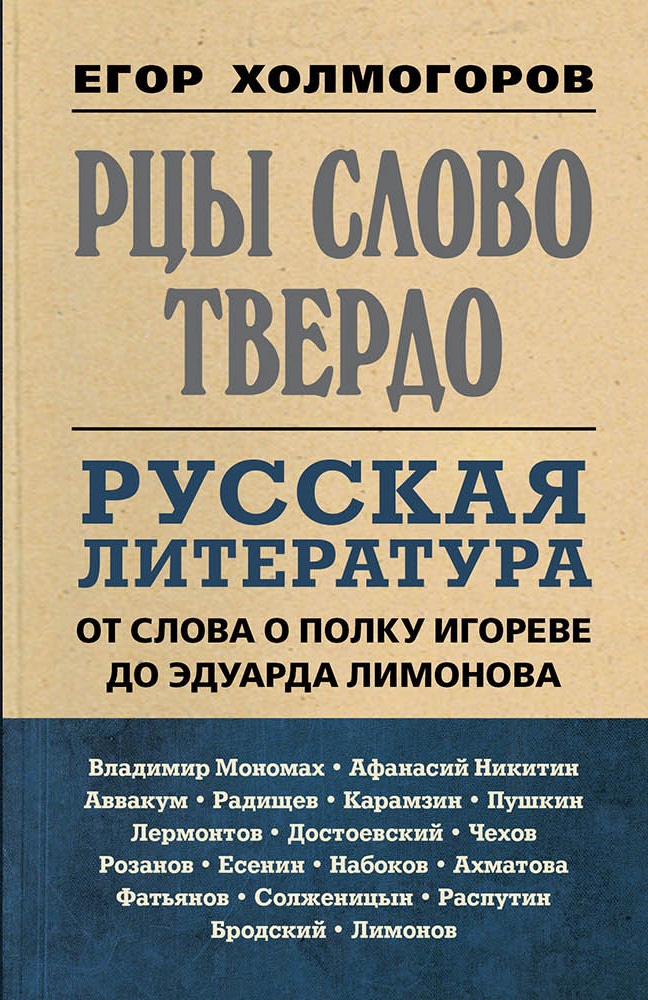Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
Третьяковская галерея для России – это больше, чем просто собрание картин. Это душа народа и осмысление его истории. «От вас крупное имя и дело останется», – говорил Павлу Третьякову Владимир Стасов. Эта книга раскрывает судьбу Третьякова и его великого детища, главной галереи всея Руси, которая носит имя своего создателя – крупнейшего меценат в истории русского искусства.В формате a4.pdf сохранен издательский макет.
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Коллектив авторов»: