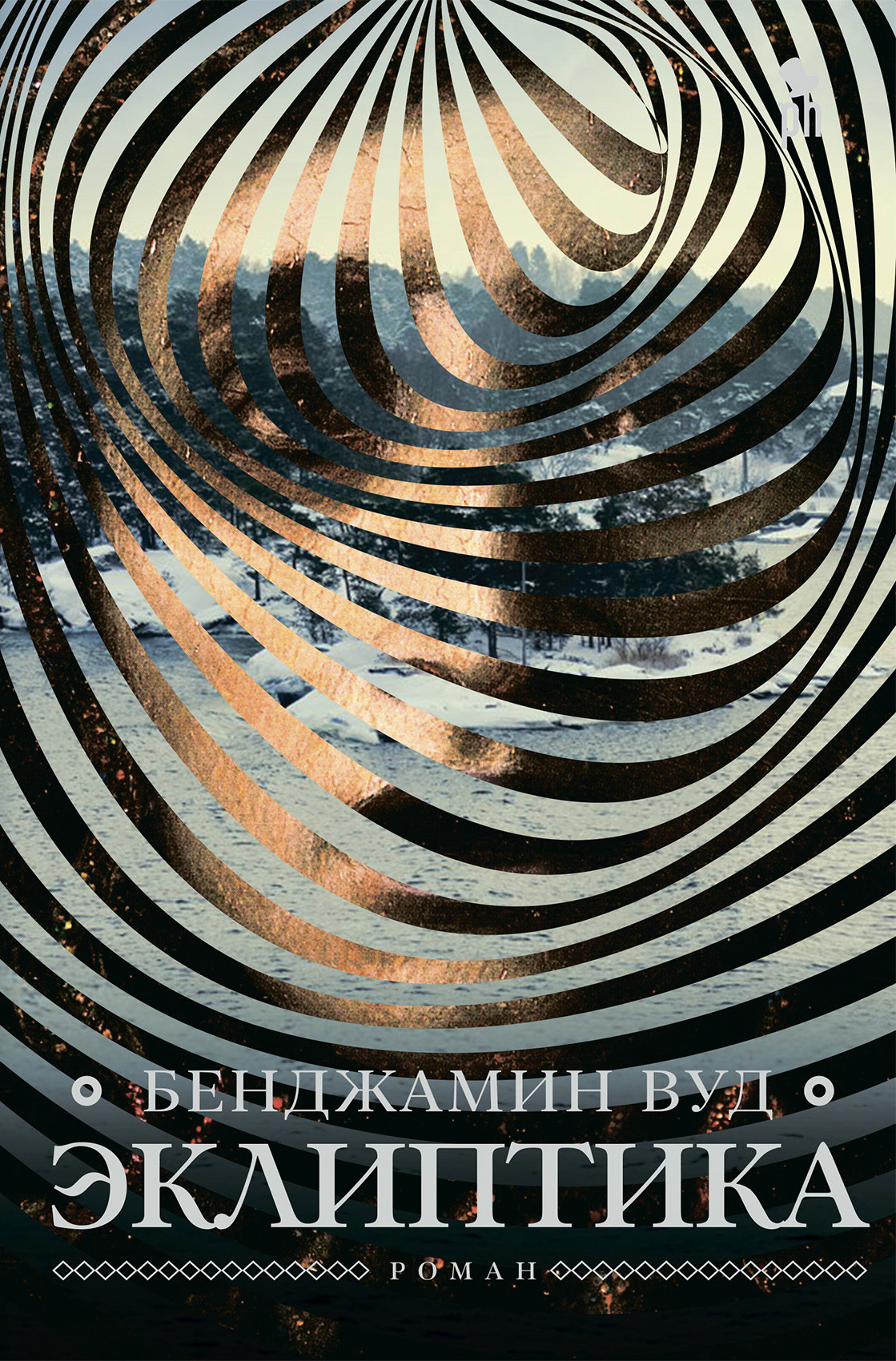Шрифт:
Закладка:
Дулси не очень-то заботило, что я бросила этот заказ. Пока я волновалась о воображаемых линиях, они с Максом вели переговоры с иностранными галереями. Им удалось завербовать парижскую “Галери Рив Друа” и “Галери Гассер” в Цюрихе, и первая выездная выставка моих нью-йоркских картин была намечена на весну 1962 года. Затем, словно странствующий цирк, картины отправятся на гастроли по Италии: из римской галереи “Обелиско” – в Милан, а оттуда в конце года – в Турин. Пусть по-своему, но Дулси заботилась обо мне, и я хотела показать, что ценю ее труды. Благодаря ее связям в Британском совете летом 1961 года мой диптих “Богобоязненный” был представлен на групповой выставке в Афинах вместе с работами Мэтью Смита[43] и других художников, которых я боготворила. Дулси утверждала, что если мы будем придерживаться ее “семилетнего плана”, то к тридцати двум годам у меня уже будет ретроспектива в Тейт. Если честно, я была рада, что такой человек, как Дулси, продвигает мои работы, ведь сама я видела в них одни недостатки.
После моей отлучки, как это называла Дулси, она каждую неделю выходила на связь. Все лето мы регулярно разговаривали по телефону, а порой мне неожиданно приносили телеграмму с приглашением на обед в ее новый любимый ресторан. В сентябре мы встретились в “Риб Рум” на Кадоган-стрит, где Дулси особенно нравились филейные стейки. “Европа – это, конечно, очень здорово, но пора подумать о твоей следующей выставке в Лондоне, – говорила она, собирая сок от стейка хлебной корочкой. – Макс считает, что надо действовать, пока не угас интерес, и отчасти он прав. Рынок сейчас такой непредсказуемый. Но, по-моему, пусть лучше публика немного потомится. Думаю, можно потянуть до следующей осени. Или для тебя это слишком рано?” Между десертом и кофе она выудила у меня согласие. Было решено: новая выставка в “Роксборо” пройдет в ноябре 1962 года.
Это давало мне целый год на работу, но я была так надежно убаюкана тофранилом, что закончила десять картин еще до Рождества. Я использовала тот же метод, что и с нью-йоркскими полотнами: заполняла альбомы уличными сценами и, выбирая те, что способны удержать мой интерес, переносила их на холсты формата шесть на шесть футов. Я была оторвана от процесса. Созданные мною образы были яркими, но пустыми. Казалось, кто-то другой пробирается ночами в мастерскую и пишет их, пока я сплю.
Все наброски я делала с верхнего этажа сто сорок второго автобуса. Шесть дней подряд я каталась туда-обратно между станцией “Килберн-парк” и Эджуэром, разглядывая мостовую всякий раз, когда автобус останавливался. Я хотела показать жизнь Лондона с верхнего ракурса – этот прием расхваливали в моих предыдущих работах, и я решила, что никто не будет против, если я продолжу бездумно его копировать. Лишь одно полотно представляло хоть какую-то художественную ценность – картина “Выйду на следующей”, где две размытые фигуры в плащах пытались оттащить друг от друга своих собак на Уотлинг-авеню. Мужчины были изображены сверху и чуть под углом, как два тореадора; немецкие овчарки, встав на задние лапы, лаяли и натягивали поводки. (“Какие-то бешеные, – сказала женщина, сидевшая сзади. – Лучше подожду и выйду на следующей”.)
Все это время я раз в неделю встречалась с Виктором Йеилом на Харли-стрит. Мы долго продирались сквозь тернии моего сознания, пытаясь определить, когда именно панно для обсерватории начало от меня ускользать. Виктор не настаивал, чтобы я бросала заказ. “Но, если ты допишешь работу на таблетках, подозреваю, ты всегда будешь рассматривать ее как компромисс. А нам нужно, чтобы ты смогла завершить ее так, как тебе нравится, и без лекарств”. Он был прав. Панно должно было что-то значить. Зачем мне еще одно творение, которым я не смогу гордиться? Хотя бы этой работой я не пожертвую, даже если не найду в себе сил ее закончить.
Виктор считал, что справиться с тревожностью можно, лишь разобравшись с ее причинами. Несколько занятий мы обсуждали происшествие в кальдарии, ночь с Уилфредом Сёрлом, мои чувства к Джиму Калверсу и мое детство в Клайдбанке – без видимых результатов, если не считать зыбкого чувства вины, какое возникает, когда поверяешь свои тайны посторонним. Иногда Виктор просто бродил в тумане, пытаясь связать вещи, между которыми не было никакой связи. А иногда ему удавалось найти в моей голове мысли, о существовании которых я даже не подозревала.
– А Сёрл? – спросил он на одном из первых сеансов после перерыва. – Как тебе кажется, испытал бы он облегчение?
– Да он бы закатил вечеринку.
– Но ты ему не сказала.
– Нет.
– Как считаешь, это справедливо?
– Да плевать я хотела.
Виктор задумчиво хмыкнул.
– А ты? Ты испытала облегчение?
– Не знаю. – Молчание затянулось. Я соскабливала ногтями краску с костяшек. – Не могу сказать, что тогда не испытала. Но теперь я отношусь к этому иначе.
– Где ты взяла мяту?
– У Дулси.
– А она где?
– Купила у какой-то китаянки. Кажется, на Портобелло-роуд.
– Понятно. – Виктор отложил свои записи и подался вперед: – Как думаешь, ты хотела бы в будущем завести детей?
Я пожала плечами:
– Я могу без них жить. Я много без чего живу.
– Например?
– Без любви, скажем. Без близости. Привязанности.
– Еще не все потеряно. Ты молода.
– Да, но я выбрала это.
– Психотерапию?
– Нет. Искусство.
Сеанс за сеансом длились эти беседы. Каждый вторник после полудня я откладывала кисть, набрасывала пальто и вызывала такси до Харли-стрит. Я плелась по ступенькам в контору Виктора, кивала секретарше и ждала, пока он выглянет из кабинета и поманит меня рукой. И он усаживал меня в мое обычное кресло с моей обычной синей подушкой, и мы продолжали с того места, где остановились в прошлый раз. Мы много обсуждали мое безразличие к новым работам. Виктор хотел знать о каждом этапе их создания. Казалось, мы почти что пишем их вместе. И вот однажды, придя в контору, я увидела повсюду рождественские гирлянды. Стоя на верхней ступеньке стремянки, Виктор вешал на люстру в приемной бумажную снежинку.
– Привет, – сказал он. – Что думаешь об украшениях?
– Сойдут.
– Это Джонатан в школе смастерил. – Снежинка покачнулась и угодила ему по щеке. – Хорошо, что они не тратят время на алгебру и ораторское искусство.
– Может, в геометрии поднатореет, – сказала я.
Виктор рассмеялся. Затем спустился с лестницы, отдал секретарше клейкую ленту и, взглянув на снежинку, сказал:
– Думаю, не упадет. – Похлопав себя по карманам, он повернулся ко мне: – Ну что, мисс Конрой, пойдем?
Когда мы устроились в креслах, я заговорила о картине, к которой приступила тем утром, – я не сомневалась, что Дулси объявит ее лучшей работой на выставке.
– Там просто три старушки на скамье, а мимо летят размытые голуби. Самая скучная вещь, какую я когда-либо писала, а значит, Дулси будет в восторге.
– Иногда мне кажется, что ты к ней слишком строга.
Это меня удивило.
– Хм-м… – Я притворилась, будто делаю пометку на подлокотнике. – Постарайся объяснить, что ты имеешь в виду.
Он скорчил гримасу в ответ