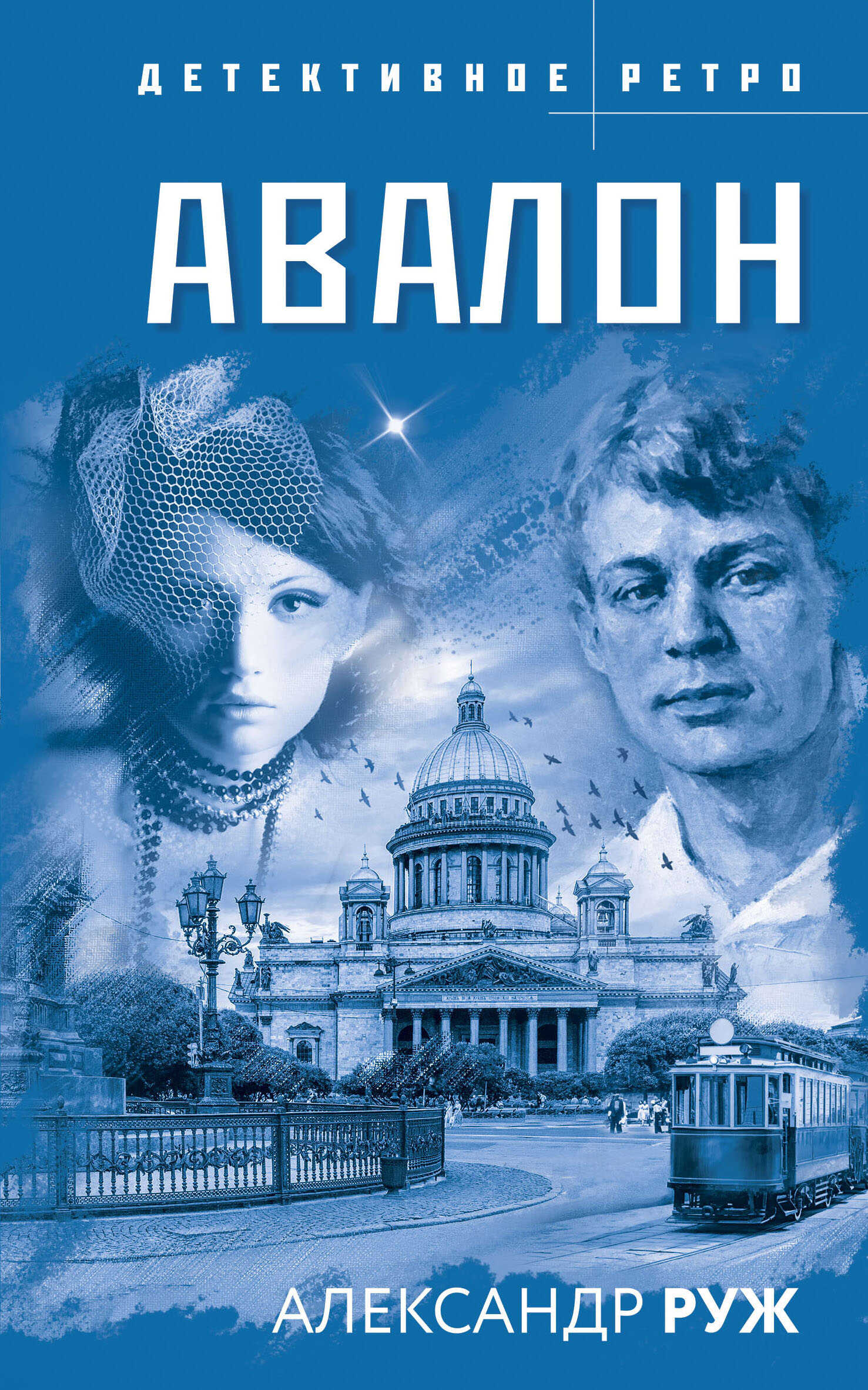Шрифт:
Закладка:
1925 год. Москва готовится к международному шахматному турниру. Приглашены ведущие игроки во главе с чемпионом мира Капабланкой. Турнир приобретает для молодой страны еще и политическое значение: если он пройдет удачно, можно будет доказать зарубежью, что СССР – не государство варваров, а держава с большим культурным и интеллектуальным потенциалом. Однако за несколько дней до начала на окраине Москвы находят труп неизвестного. При обыске в кармане убитого обнаруживают зашифрованную записку. Из нее следует, что он был связным преступной организации «Черный король», которая планирует теракт против приехавших в Москву шахматных звезд. В ГПУ прекрасно понимают, что любая внештатная ситуация, не говоря уже о покушении на кого-либо из участников турнира, подорвет авторитет страны, поэтому внедряют в шахматную среду своего сотрудника Вадима Арсеньева…