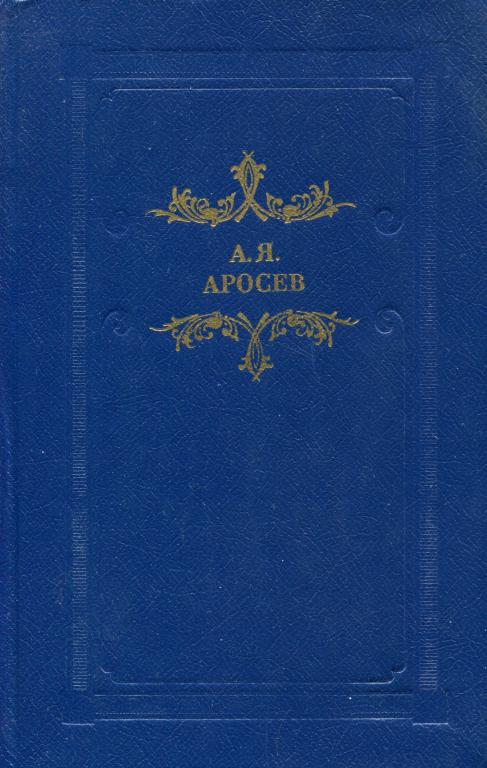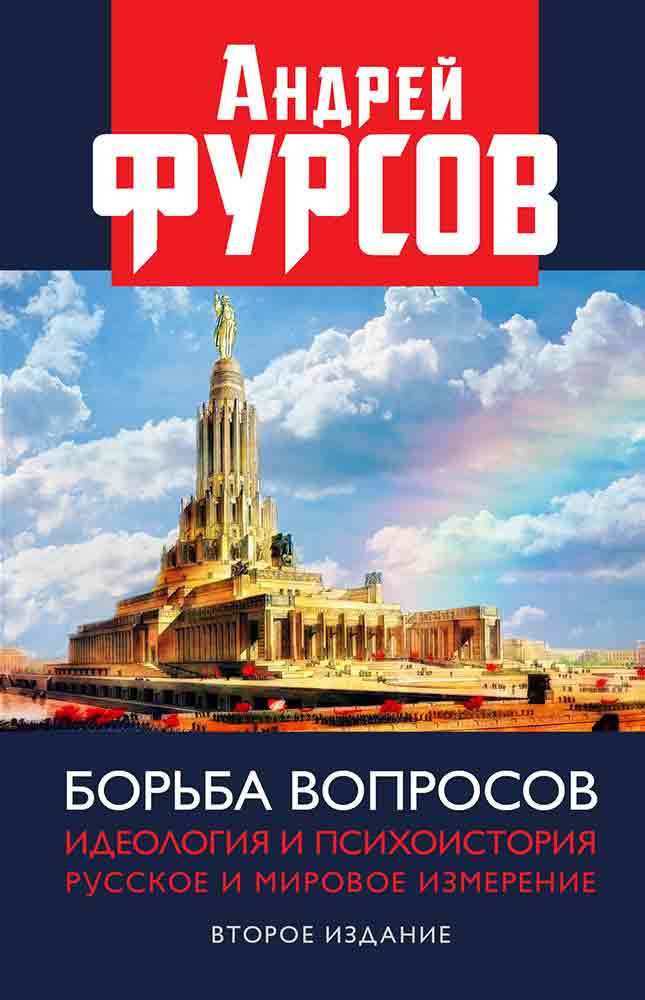Шрифт:
Закладка:
Белая лестница - это роман Александра Аросева, в котором он рассказывает о своей жизни и деятельности в период с 1917 по 1933 годы. Автор - русский революционер, советский партийный деятель, сотрудник советских спецслужб, дипломат и писатель - создает увлекательный и правдивый образ своего времени, в котором он принимал активное участие в исторических событиях. Он рассказывает о своем участии в Октябрьской революции, о своей работе в Главвоздухфлоте, в Верховном революционном трибунале Украины, в Институте Ленина, в ВЧК. Он также рассказывает о своих дипломатических миссиях в Литве, Чехословакии и Франции, о своих встречах с известными политическими и культурными деятелями того времени. Он не скрывает своих ошибок и неудач, своих страстей и любвей, своих страданий и радостей. Он пишет о своей семье, о своих детях, о своей матери, которая была расстреляна белочехами. Он пишет о своем отношении к ленинизму, сталинизму, троцкизму. Он пишет о своем творчестве, о своих книгах и статьях. Он пишет о своем видении будущего России и мира.
Если вы хотите узнать больше о том, как жил и думал один из самых ярких и неоднозначных деятелей советской эпохи, то не пропустите этот замечательный и уникальный роман. Вы можете читать книгу онлайн на сайте knizhkionline.com, где вы найдете множество других интересных произведений по истории и публицистике.