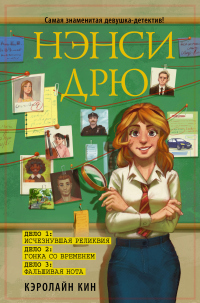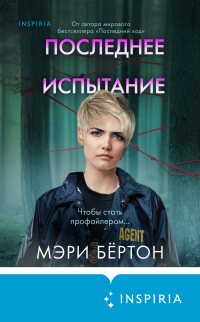Шрифт:
Закладка:
Необъяснимые паранормальные явления, загадочные происшествия, свидетелями которых были наши бойцы в годы Великой Отечественной войны, – в пересказе несравненного новеллиста Александра Бушкова!Западная Украина, 1944 год. Небольшой городишко Косачи только-только освободили от фашистов. Старшему оперативно-разыскной группы СМЕРШа капитану Сергею Чугунцову поручено проведение операции «Учитель». Главная цель контрразведчиков – объект 371/Ц, абверовская разведшкола для местных мальчишек, где обучали шпионажу и диверсиям. Дело в том, что немцы, отступая, вывезли всех курсантов, а вот архив не успели и спрятали его где-то неподалеку.У СМЕРШа впервые за всю войну появился шанс заполучить архив абверовской разведшколы!В разработку был взят местный заброшенный польский замок. Выставили рядом с ним часового. И вот глубокой ночью у замка прозвучал выстрел. Прибывшие на место смершевцы увидели труп совершенно голого мужчины и шокированного часового.Боец утверждал, что ночью на него напала стая волков, но когда он выстрелил в вожака, хищники мгновенно исчезли, а вместо них на земле остался лежать истекающий кровью мужчина…Автор книги, когда еще был ребенком, часто слушал рассказы отца, Александра Бушкова-старшего, участника Великой Отечественной войны, и фантазия уносила мальчика в странные, неизведанные миры, наполненные чудесами, колдунами и всякой чертовщиной, и многое из того, что он услышал, что его восхитило и удивило до крайности, легко потом в основу его книг из серии «Непознанное».