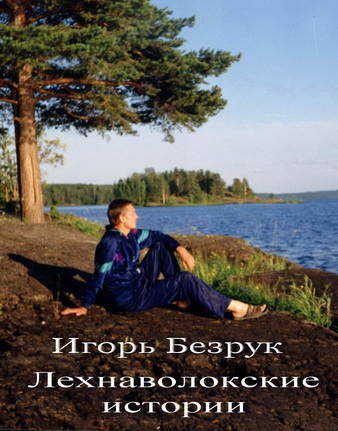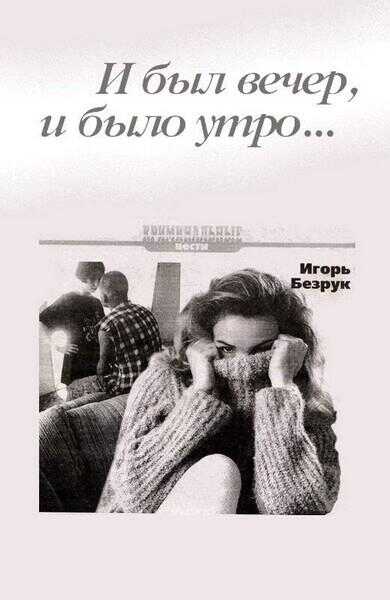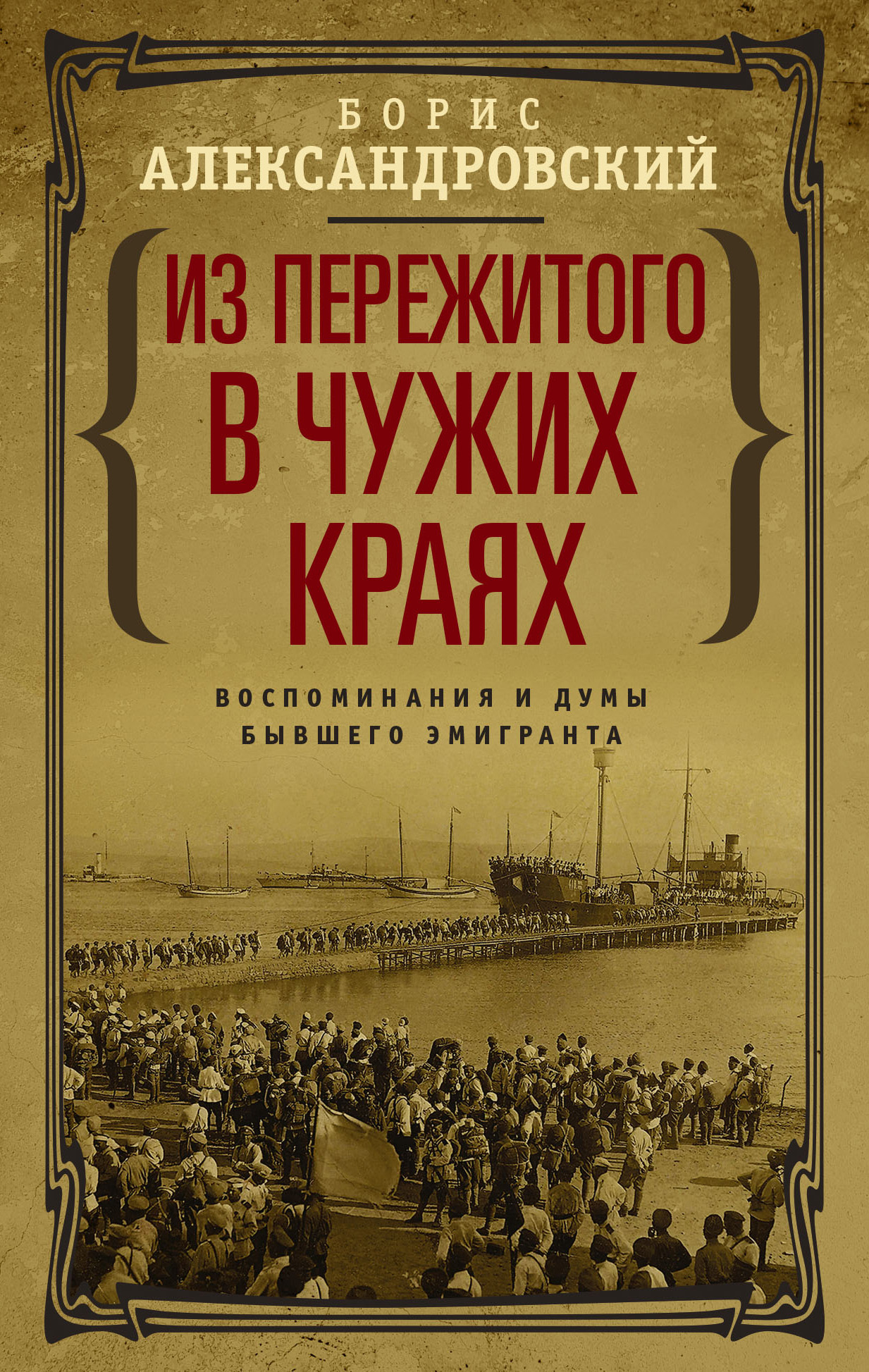Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
Август 1998 года. Пятеро молодых ребят отправляются подзаработать в Карелию… В сокращенном варианте повесть впервые была опубликована в русском литературном журнале «На любителя» (Атланта, США)в 2010 году. Издана в Иваново в 2012 г.
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Игорь Анатольевич Безрук»: