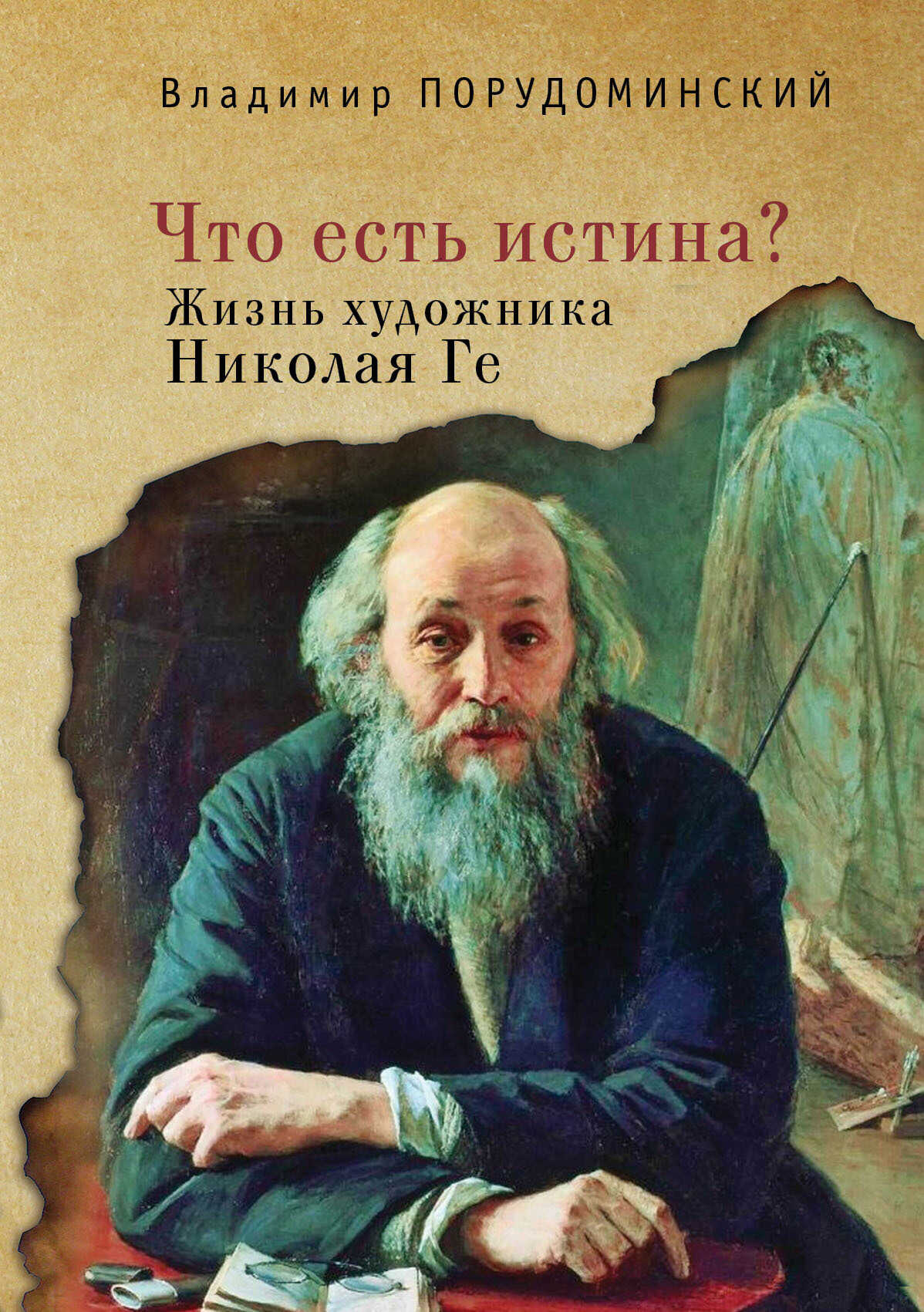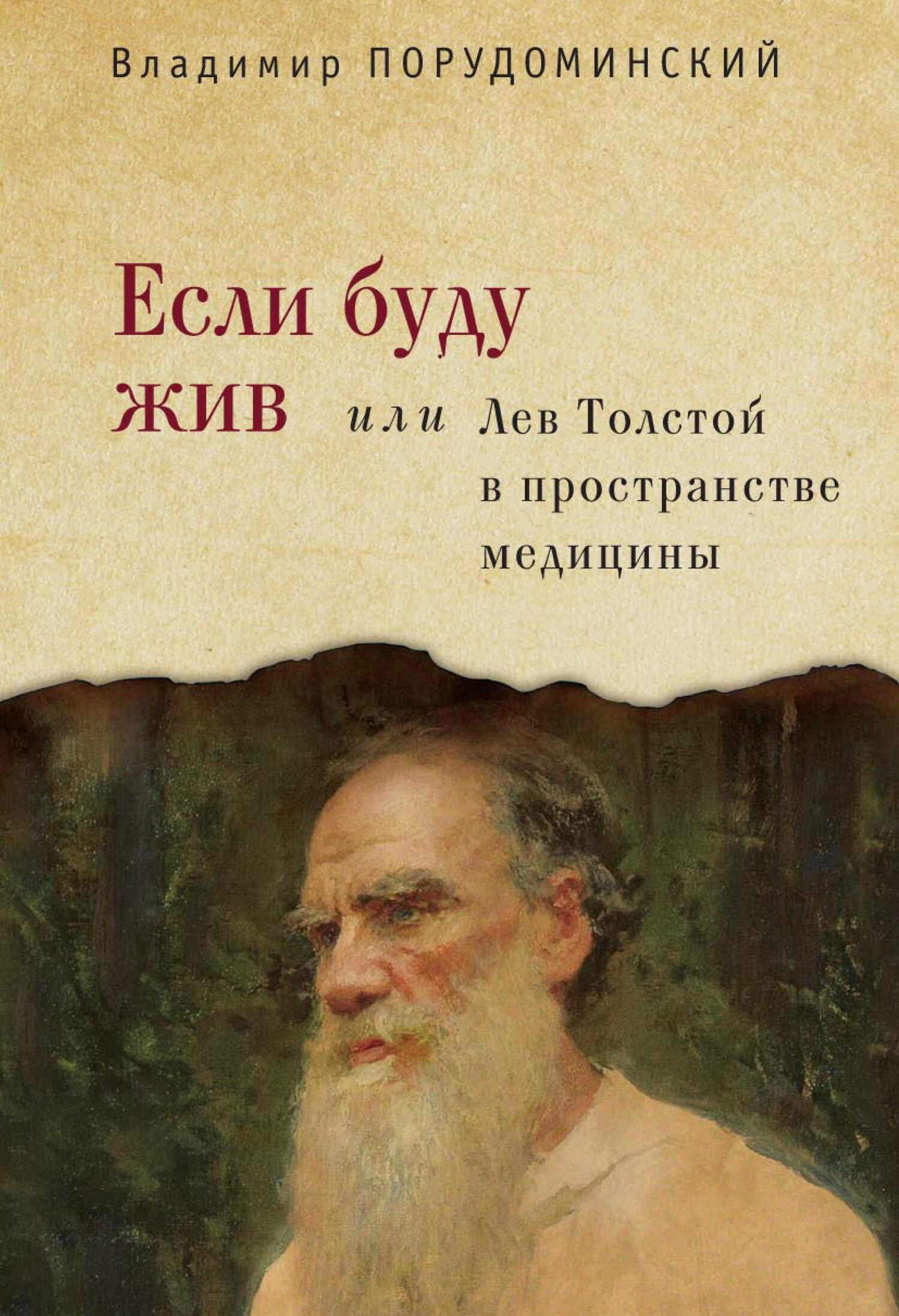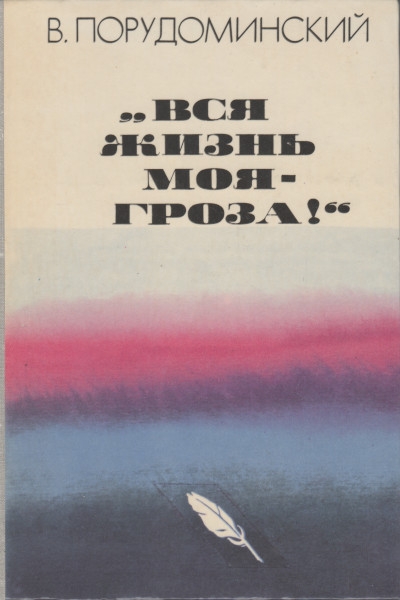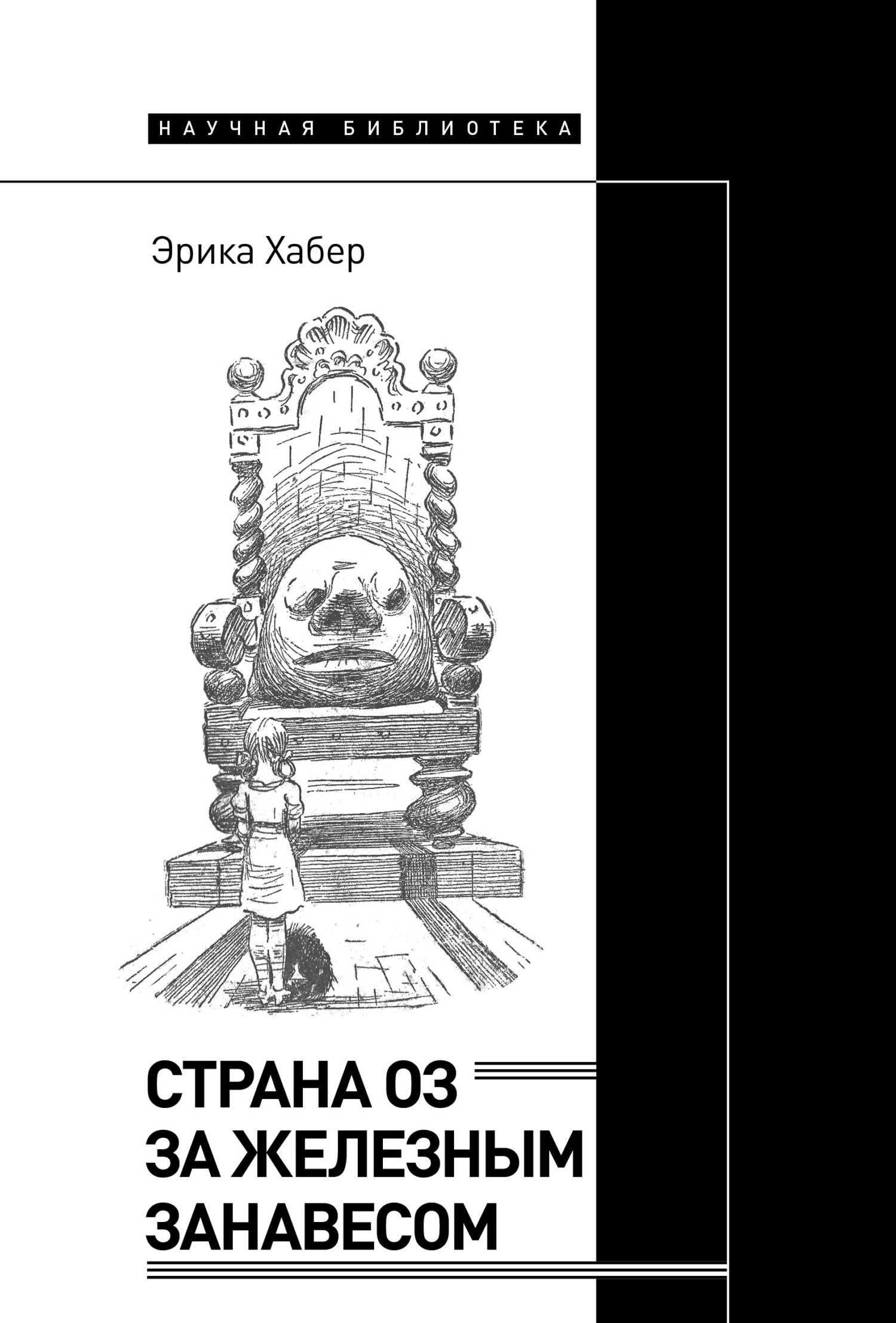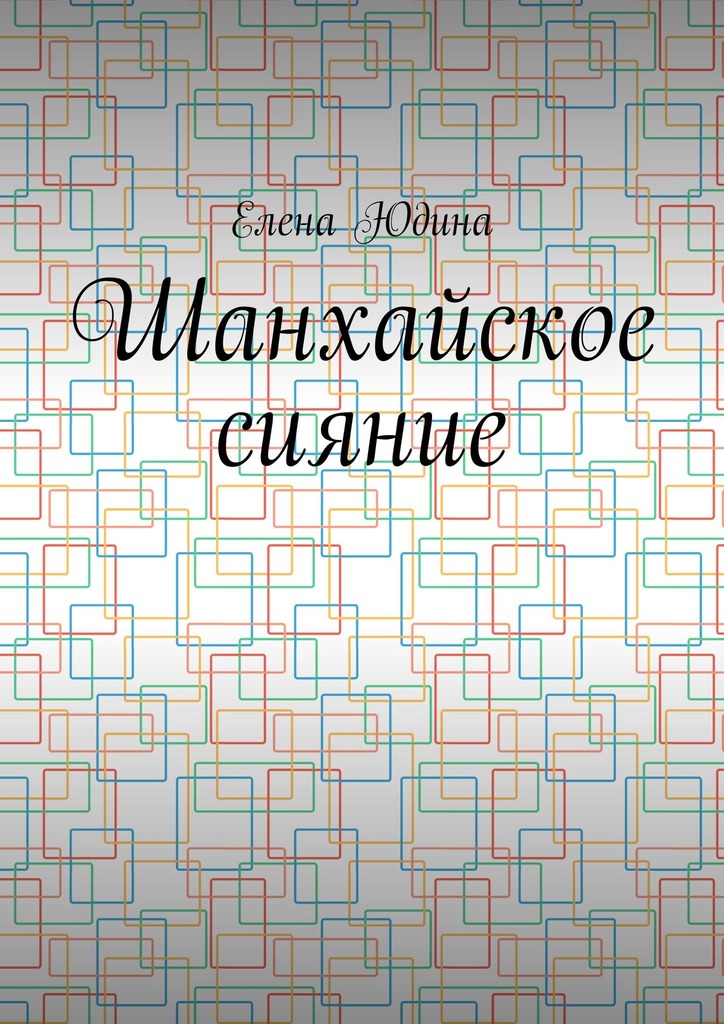Шрифт:
Закладка:
Иван Николаевич Крамской (1837–1887) – один из самых известных русских художников. Зрители давно и навсегда полюбили его картины – «Христос в пустыне», «Неутешное горе», «Неизвестная», написанные им портреты русских писателей, художников, ученых. Образ многих выдающихся людей нашего отечества остался в памяти потомков благодаря тому, что запечатлен кистью Крамского. Среди лучших портретов, им созданных, первое живописное изображение Льва Толстого, портрет-картина «Некрасов в период „Последних песен“». Крамской был не только замечательным художником, но и видным общественным деятелем, одним из основателей и руководителей Товарищества передвижников. О жизни Крамского, о его творчестве, о его трудах по распространению любви к искусству в обществе рассказывает эта книга.В формате PDF A4 сохранён издательский дизайн.