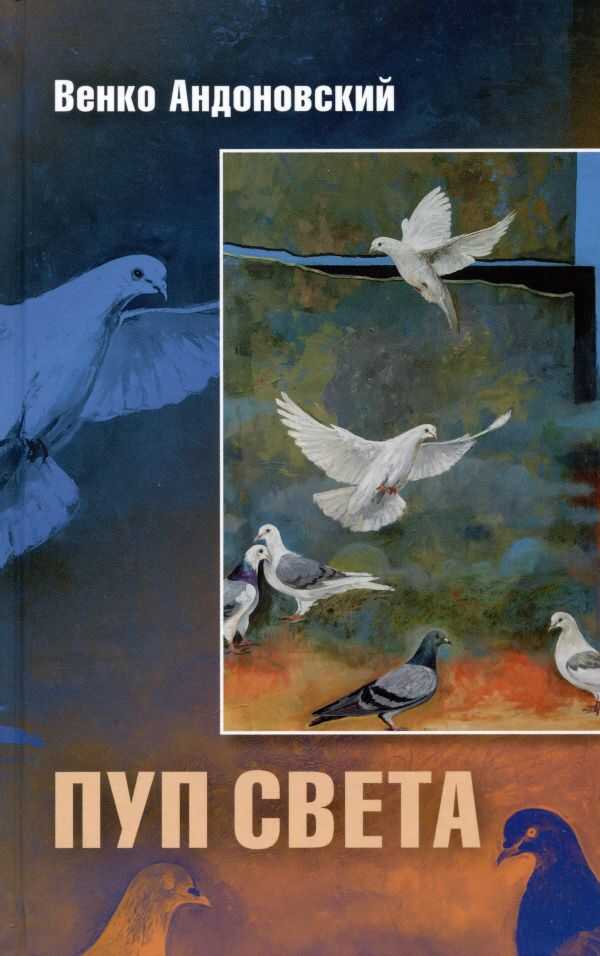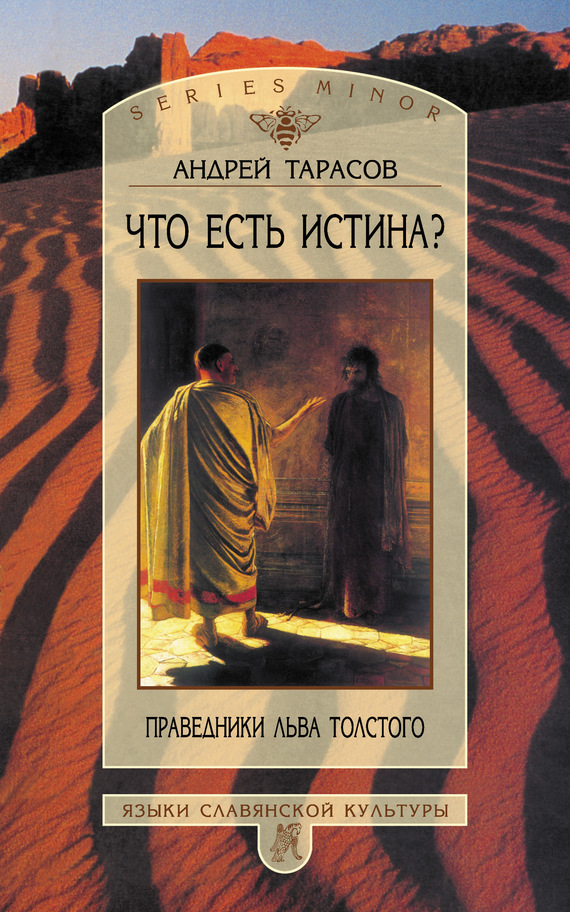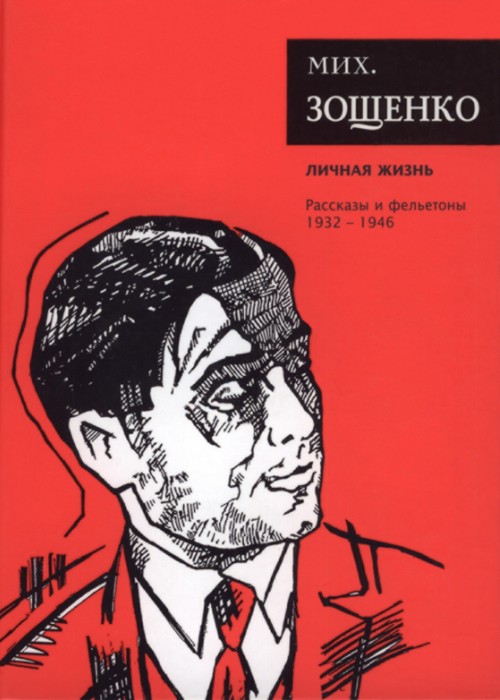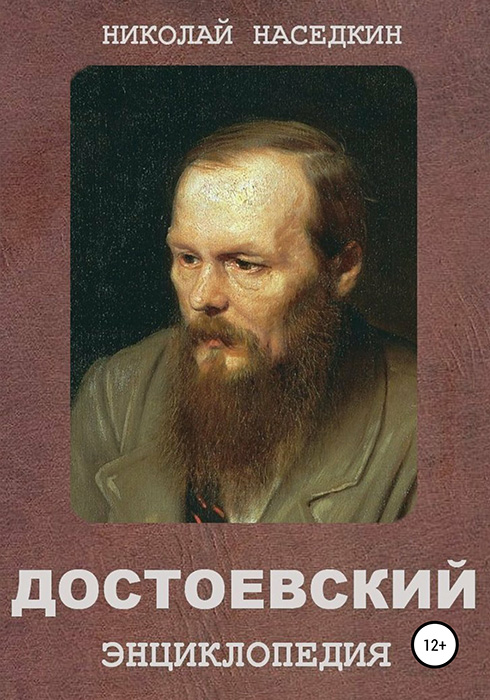Шрифт:
Закладка:
— Абсолютно. Ваши романы — пустая болтовня. Бесполезный, хотя, признаюсь, умелый дриблинг, приятный глазу, но не заканчивающийся эффектным и молниеносным голом. Есть Бог, нет Бога. Есть бессмертие, нет бессмертия. Имеет ли жизнь без Бога смысл или нет? Вопросы о том, всемогущ и благ ли Бог, а если да, то почему тогда существуют детские слезы и страдания, сегодня не имеют значения! Сегодняшний читатель хочет совсем другого. Достоевский давно умер, господин Людвик!
Я мог бы смириться, если бы кто-нибудь наложил лапу на мой кошелёк, телефон, компьютер, но не на Достоевского. Клаус этого не знал.
— А кто остался жив? Макдональдс? Вы ждёте, что я буду писать романы о фастфуде? — выпалил я.
Он разочарованно перевёл взгляд на экран и совершенно спокойно, словно смирившись с потерей одной ничтожной курицы из своего птичника, полного кур, несущих золотые яйца, сказал:
— Читатели хотят именно этого, господин Ян.
Теперь пути назад не было. Внутри меня всё вскипело.
— А я что, по-вашему, официант, который должен принести клиентам то, что они заказали?! — сказал я чуть громче.
Он, всё так же уткнувшись в экран (уверен, что он одновременно правил чью-то рукопись), грубо сказал:
— Это всё ваша балканская спесь. Вы не официант. Официант я. Вы повар, не переоценивайте себя. Официант берёт деньги, повар просто готовит.
— Ну, если по-вашему я стою на голове, подскажите, как встать на ноги? — спросил я.
Клаус Шлане знал, как унизить: он не поднял глаз с этими двумя шипами, как бы намекая, что даже их лицезрение тоже нужно заслужить послушанием.
— Сядьте и напишите талантливый роман, основанный на сегодняшних ценностях. Например — поиски ребёнка, похищенного из городского торгового центра. Или: мусульманские террористы планируют нападение на детский сад, но ЦРУ их нейтрализует. Или — там у вас на Балканах, сколько угодно тем: люди пропадают, преступники нелегально торгуют человеческими органами. Но их ловит немецкая полиция…
— Это для вас современные ценности?! Это тератологические аномалии человечества! Вы предлагаете мне участвовать в индустрии страха?
— Дорогой мой, в наши дни страх продаётся лучше, чем героин — почти дружелюбно сказал Шлане. И продолжил, снова в дружеской манере, одаряя меня тем, что можно назвать милостью агента. — Но если вам не нравится, то и не надо. Право на однополые браки — тоже отличная тема, прекрасно продаётся. Или: смена пола со всякими психологическими переживаниями персонажа, хотя, признаюсь, этим рынок и так уже насыщен. Один я обеспечил карьеру десяткам известных сегодня людей, которые об этом писали. Но если сделать упор на свою местную, примитивную среду, не понимающую таких людей, то получится новое видение: до сих пор не написано ни одного романа, в котором главным героем была бы непросвещённая толпа, окружающая человека, страдающего из-за неприятия своей сексуальной ориентации.
Тут он неожиданно поднял голову и поймал мой презрительный взгляд. И Клаус Шлане решил нанести последний удар. Я хорошо помню, что он сказал:
— Если только вы сами не являетесь частью этой непросвещённой среды. Вероятно, вам как интеллектуалу известно, что и феминизм, и квиртеории, и ЛГБТ-сообщества многим обязаны марксизму и что они представляют собой гораздо больше, чем разговоры об изменчивости половой идентичности. Это целые философии, которые, подобно марксизму, стремятся уничтожить капитализм: они гораздо шире эрогенной зоны, они трактуют идеологию и общество.
Бедняга Шлане: он думал, что убивает меня, а на самом деле помог мне подготовиться к залпу.
— Значит, вы как частнокапиталистический агент, получающий миллионы долларов прибыли, хотите свергнуть капитализм? Не знаю, почему я вам не верю, господин Клаус. Если Марксу со всем его безукоризненно построенным философским зданием и с общепланетарной армией пролетариата не удалось свергнуть капитализм, то вряд ли это сделает женщина, которой пересадили фаллос. Это изменение стоит меньше, чем отдельно взятая страница из «Капитала».
Он смотрел на меня, как будто я неисправимый преступник. Потом холодно сказал:
— Я заканчиваю делать вам предложения. Напишите что-нибудь из того, что я перечислил, и у вас будет мировой бестселлер. Прислушайтесь к моему мнению, я всю жизнь в этом бизнесе.
— А медведь всю жизнь в лесу, но он не становится от этого инженером лесного хозяйства — сказал я и попал в точку: Клаус Шлане смотрел на меня так, словно хотел раздавить.
— Море самомнения, как и у всякого славянина. Как только вам дают совет, вы сразу думаете, что кто-то хочет купить у вас Святой Дух, который не продаётся. А Западу наплевать на ваш православный Святой Дух вместе со всей вашей мистикой. Оставайтесь тогда первым писателем своей долбаной балканской дыры!
Было приятно глядеть на Клауса Шлане, разозлившегося и опустившегося до использования вульгарной лексики. После этого было бы тем более иллюзией верить, что эта тщеславная и суетная европейская задница, начитавшаяся синопсисов литературных и философских сочинений, хотя, вероятно, изучавшая философию в университете в Йене, сможет вернуться к христианскому покаянию и смирению, братской любви к ближнему. Поэтому я плеснул ещё керосинчика:
— Ваш Запад — он-то и есть настоящая дыра, господин Клаус. Его, как и всякого обывателя, интересуют только две вещи: чужой грех и собственная непогрешимость. Чужой провал и собственный успех.
В этот момент мой взгляд впервые наткнулся на то, что всё время тревожило меня в этой сцене, что я ощущал боковым зрением, но не видел по-настоящему: жилку, пульсировавшую на шее Клауса Шлане! Какой-то нерв, который никак не мог успокоиться. Я был потрясён и, не в силах скрыть своего удивления, почти пафосно спросил:
— Мы с вами познакомились до того, как я начал писать роман, или после, господин Клаус?!
Мое беспокойство передалось ему: самодовольных людей сбивает с толку быстрая смена темы, а особенно если задать им вопрос, ведь они знают, что главенствует тот, кто спрашивает. И тогда им кажется, что они теряют контроль над разговором. Поэтому бедняга Шлане выпалил, скорее, чтобы проглотить унижение от необходимости отвечать:
— После. А какое это имеет значение?
Я не мог оторвать взгляда от жилки на шее, которая пульсировала в такт с биением сердца, как мы не можем не смотреть на человека, у которого нет ноги, или на гноящуюся рану. Известно, что человек не может отвести взор от прекрасного, а тем более от безобразного; так что я сидел, уставившись на сосуд, бьющийся в ящеричном ритме нечестивого на шее Клауса, чуть ниже подбородка. Я понял, что он вообще не читал моего романа, раз не вспомнил о такой же самой