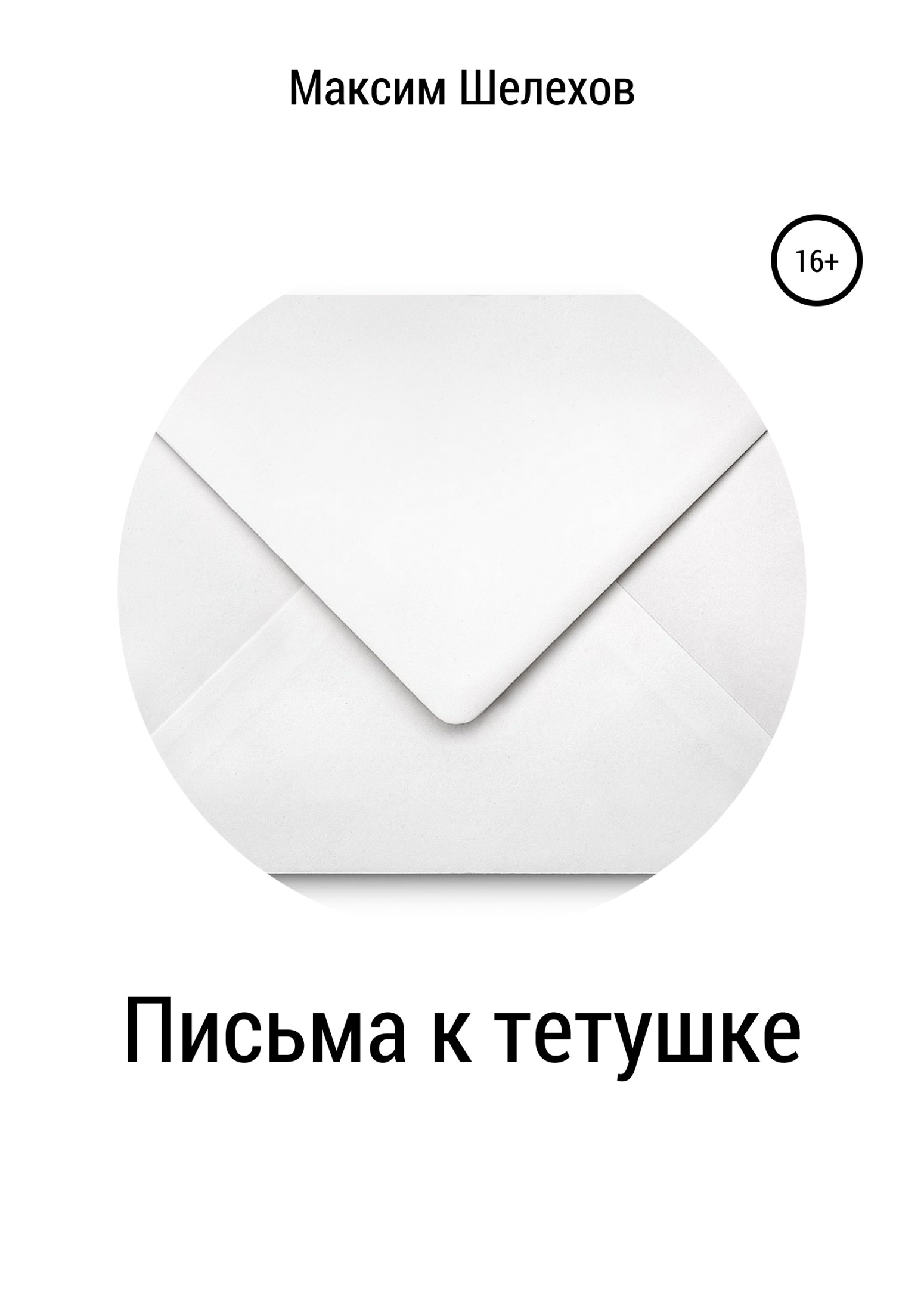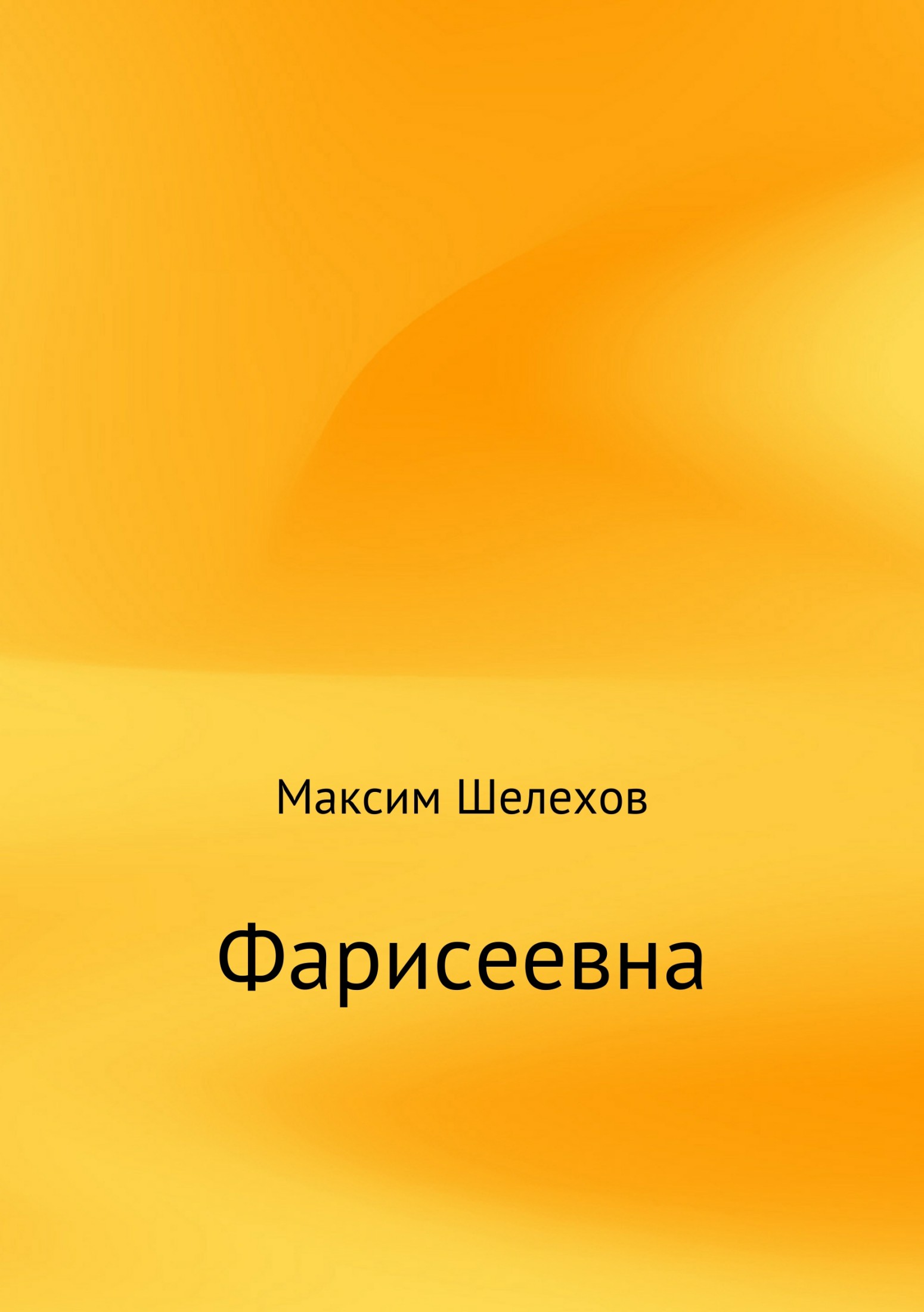Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
«Обыкновенная семейная сцена» повествует о раздоре и разладе в семье Игнатовых, о "подвиге" Антонины Анатольевны, пролившей свет на настоящее положение дел в ее семье – так отчаянно, в момент кризиса; о том, как самые страшные опасения мужа ее, Андрея Константиновича, одно за другим сбывались. О злоключениях молодых Игнатовых, о чудачествах Пряникова, о жизни прочих членов «кружка Игнатовых». О славном городке Кузино, о его жемчужине, об «Искре».
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Максим Юрьевич Шелехов»: