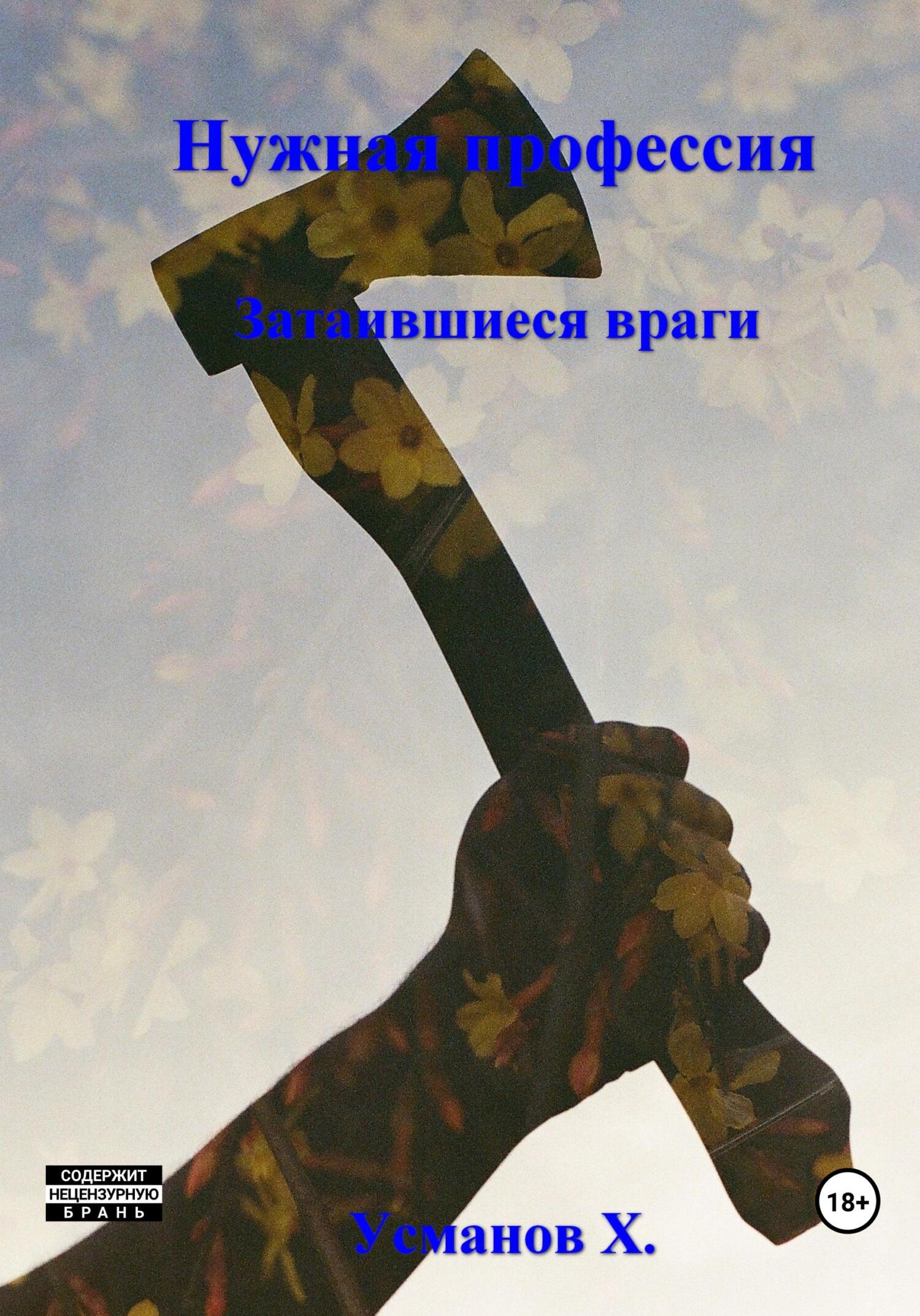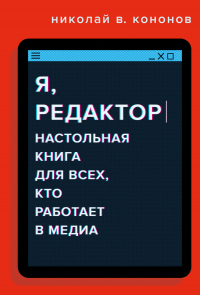Шрифт:
Закладка:
Два мира прошлого и будущего переплелись для Ефросиньи в ажурное кружево событий. Кто она? Ученый или фольклорный элемент из детских сказок? Благополучный член семейной ячейки или любовница с многолетним стажем? Борец или пассивный наблюдатель? Сможет ли женщина из двадцать второго века выжить в тринадцатом? Без смартфона полного информации, без медпомощи, без законов защищающих её с ног до головы? Сумеет ли человек видящий овощи лишь на полках супермаркета, и не делающий по хозяйству ни чего кроме отдачи голосовых распоряжений умному дому, наладить быт в избушке посреди лесной чащи? А в княжеском тереме? Предупреждаю сразу, не будет: магии; мистики; изменения истории; изобретения пороха; соблазнения Батыя; объединения Земель Русских; ванильной любви, властных героев, чутких трепетных героинь и прочего безобразия)))Примечания автора: Перед вами книга, идея которой родилась ранним воскресным утром и оформилась сразу «от» и «до», потому я решила «доброй сказке быть». А потом что то пошло не так)) Проходящий герой выбился в главные, а баба Яга стала княгиней. Будущее решило стать самостоятельной частью, а не интерлюдией между главами. В романе образовались чёткие привязки по датам и географии: В прошлом это начало 13 века и территория Муромского княжества и граничащих с ним земель (в доп. материалах есть карта)В будущем Москва конца 22века. В связи с чем я постаралась выжать из моих знаний по истории, культуре и социологии максимум. Тем не менее основная цель — это все же создание сказки для взрослых. Именно той, которая ложь с намёком)))А посему приятного чтения! РS обновления постараюсь выкладывать каждые три дня. Буду рада любым коментам. В том числе и с обоснованной критикой. Для новой замечательной обложки использована работа Александра Простева "Святая Феврония", дизайнер — Олександр Панченко.