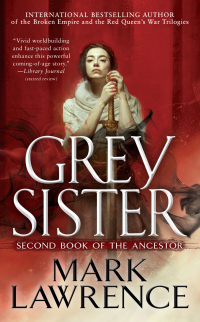Шрифт:
Закладка:
В первые дни после принятия в США сухого закона, задолго до того, как имя Аль Капоне стало известно всем американцам, сын немецких иммигрантов Джордж Римус бросил юридическую практику и занялся торговлей виски. Через два года он стал мультимиллионером. На экстравагантных вечеринках в своем роскошном особняке в Цинциннати он, вместе с женой, светской львицей Имоджен, щедро одарял гостей: бриллианты – мужчинам, дорогие авто – женщинам. К середине 1921 года Римус контролировал 35 % всей торговли спиртным в США. Помощник генерального прокурора Мейбл Уокер Виллебрандт решила свергнуть “короля бутлегеров” с его трона. Она направила своего лучшего агента Франклина Доджа расследовать деятельность империи Римуса. Это решение имело смертельные последствия: Римус оказался в тюрьме, а его жена закрутила роман с ловким агентом. Они начали против Римуса интригу, которая достигла высших уровней власти и закончилась потрясшим Америку убийством. История, которую рассказывает Карен Эбботт, кажется невероятной, но она правдива от первого до последнего слова и полностью основана на исторических документах.