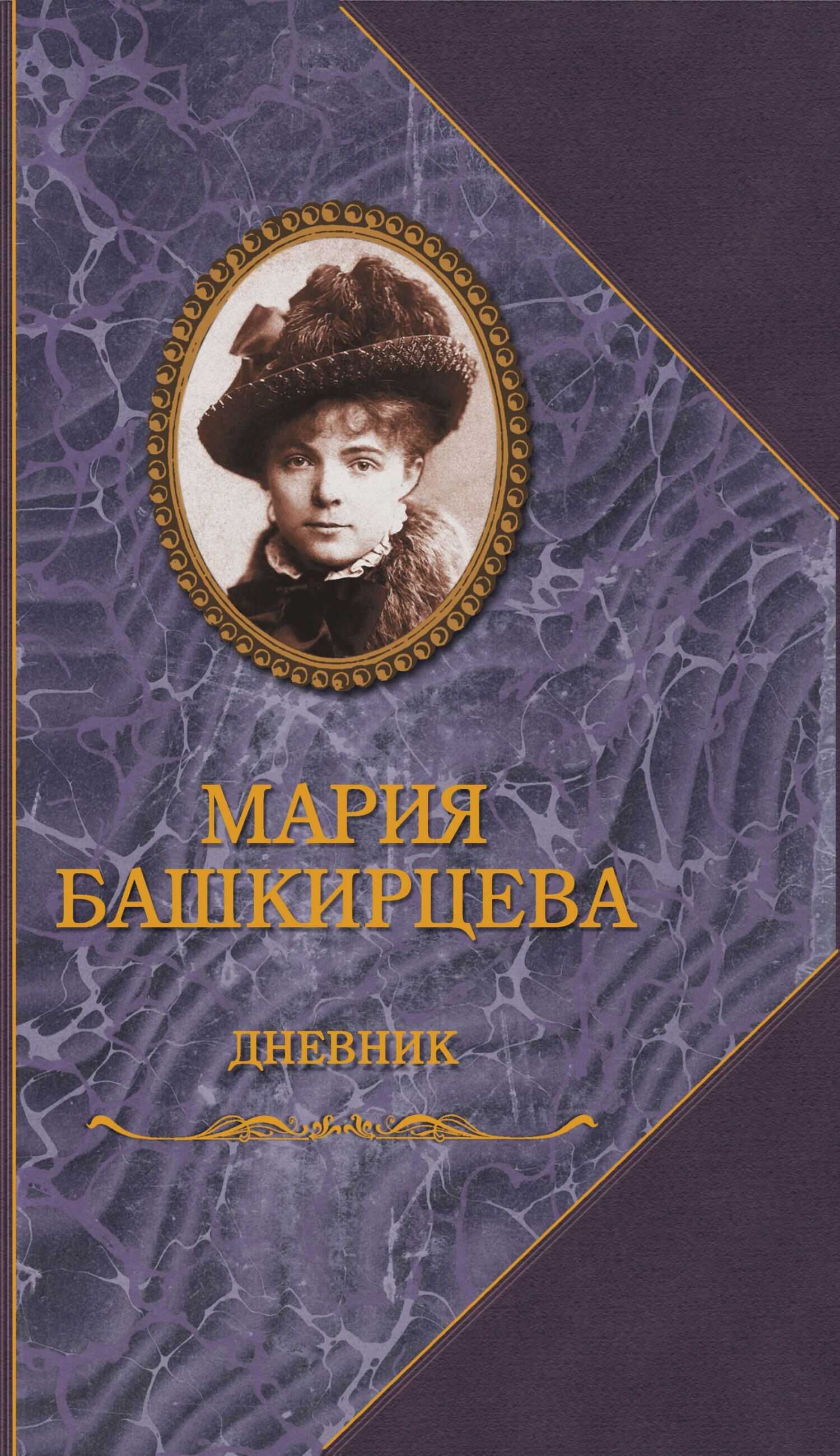Шрифт:
Закладка:
Не могу написать сегодня ни слова толком: дорога ужасно утомляет.
«Два чувства свойственны натурам гордым и любящим: величайшая чуткость к мнению о них и величайшая горечь, когда мнение это несправедливо».
28 июля
Берлин напоминает мне Флоренцию… Позвольте – он напоминает мне Флоренцию, потому что я опять с тетей и веду тот же образ жизни.
Прежде всего мы осмотрели музей. Ничего подобного я не ожидала встретить в Пруссии – может быть, по невежеству, может быть, по предубеждению.
По обыкновению, статуи удержали меня всего дольше, и мне кажется, что я обладаю какой-то особенной, большей, чем у других людей, чуткостью в отношении понимания статуй.
В большой зале находится одна статуя, которую я приняла за Аталанту, вследствие пары сандалий, которые могли бы выражать здесь главную идею; но надпись гласит, что это Психея. Все равно, Психея или Аталанта, – это замечательная фигура по красоте и естественности.
Осмотрев греческие гипсы, мы прошли далее. Глаза и голова моя уже устали, и я узнала египетский отдел только по его сжатым и беглым линиям, напоминающим круги, произведенные на воде падением какого-нибудь предмета.
Ничего не может быть ужаснее, как быть где-нибудь с человеком, которому скучно то, что для вас интересно. Тетя скучала, торопилась, ворчала. Правда, что мы проходили там два часа!.. Что очень интересно, так это исторический музей: миниатюр, статуй, древних гравюр и миниатюрных портретов. Я обожаю это. Я обожаю эти портреты, и, глядя на них, фантазия моя совершает невероятные путешествия, создает различные приключения, драмы…
Но довольно…
Затем картины.
Мы достигли времени, предназначенного для крайнего усовершенствования живописи – идеала искусства. Начали с жестких линий, с красок слишком ярких, не сливающихся между собой, потом перешли к мягкости, доходящей до неясности очертаний. Полного подражания природе, вполне верного снимка с нее, – что бы там ни говорили и ни писали, – еще не было.
Закроем глаза на то, что было между самой примитивной и современной[9] манерой в живописи и сосредоточим на них все внимание.
Жесткость, ослепительные краски, резко проведенные линии – вот в чем состоит первая.
Мягкость, краски, настолько сплывающиеся между собой, что рисунок проигрывает в рельефности, какое-то избегание линий – вот вторая.
Теперь нужно было бы, так сказать, взять концом кисти слишком яркие краски древних картин и перенести их на безжизненные современные. Тогда будет совершенство.
Есть еще род живописи, еще совершенно новый, состоящий в том, что пишут картины «пятнами». Но это ужасно, хотя таким образом и достигается некоторый эффект.
В картинах новых мастеров значение обстановки – обыденных предметов, как то: мебели, домов, церквей, недостаточно оценено. Пренебрегают точностью в передаче обстановки и таким образом производят какую-то сбивчивость линий; слишком злоупотребляют ретушевкой (тогда как можно было бы пользоваться ею, не возводя этого в обыкновение); таким образом фигуры выделяются недостаточно резко и кажутся такими же мертвенными, как окружающие их предметы, которые сделаны не с достаточной точностью и кажутся как бы не вполне твердо стоящими и неподвижными. В таком случае, дитя мое, так как, по-видимому, ты так хорошо понимаешь, что нужно для совершенства… Не беспокойтесь, я буду работать и, что еще лучше, добьюсь в этом успеха!
Я возвратилась страшно усталая, купив себе тридцать два английских тома, отчасти переводы первоклассных немецких писателей.
«Как! И здесь уже библиотека!» – воскликнула тетя в ужасе.
Чем больше я читаю, тем больше чувствую потребность читать, и чем больше я учусь, тем больше открываются передо мной многие вещи, которые хотелось бы изучить. Я говорю это вовсе не из пустого подражания известному мудрецу древности. Я действительно испытываю то, что говорю.
И вот я в роли Фауста! Старинное немецкое бюро, перед которым я сижу, книги, тетради, свертки бумаги… Где же Мефистофель? Где Маргарита? Увы! Мефистофель всегда со мной: мое безумное тщеславие – вот мой дьявол, мой Мефистофель.
О, честолюбие, ничем не оправдываемое! Бесплодный порыв, бесплодное стремление к какой-то неизвестной цели!
Я ненавижу больше всего золотую середину. Мне нужна или жизнь… шумная, или абсолютное спокойствие.
Не знаю, отчего это зависит, но я чувствую, что совершенно не люблю А., не только не люблю его, но больше и не думаю о нем, и все это кажется мне каким-то сном.
Но Рим привлекает меня; я чувствую, что там только и буду в состоянии работать. Рим – шум и тишина, развлечения и тихие грезы, свет и тени. Позвольте… свет и тени… Это ясно: где свет, там и тени и… vice versa… Нет, но я смеюсь над собой, – серьезно! И, право, есть чего – только пожелай!.. Я хочу ехать в Рим, это единственное место, подходящее к моим наклонностям, единственное место, которое я люблю за него самого.
Берлинский музей прекрасен и богат, но обязан ли он этим Германии? Нет – Греции, Египту, Риму! После созерцания всей этой древности, я села в карету с глубоким отвращением к нашим искусствам, нашей архитектуре, нашим модам.
Я думаю, что если бы другие, выходя из такого рода мест, проанализировали свои чувства, то оказалось бы, что все думают так же. Впрочем, к чему желать быть во всем похожей на других!
Я не люблю немцев за их сухость и материализм, но нужно отдать им справедливость: они очень вежливы, очень предупредительны. И что мне в них особенно нравится, так это их уважение к государям и их истории. Это потому, что они еще не испорчены всеми прелестями республики.
Ничто не может сравниться с идеальной республикой. Но республика – как горностай: малейшее пятно убивает ее. А где вы найдете республику без единого пятна?
Нет, эта жизнь просто невозможна, это ужасная страна! Прекрасные дома, широкие улицы, но… но ничего для души и воображения. Самый маленький городишка Италии стоит Берлина.
Тетя спрашивает меня, сколько страниц я исписала. «Страниц сто, я думаю», – говорит она.
Действительно, может показаться, что я все время пишу; но нет. Я думаю, мечтаю, читаю, потом напишу два слова, и так целый день.
Удивительно, как хорошо я стала понимать благодетельные стороны республики с тех пор, как причислила себя к бонапартистам.
Нет, правда, республика – это единственный счастливый род правления, но только во Франции это невозможно.
Да и потом, французская республика выстроена на грязи и крови. Но… ну не будем больше думать о республике; вот уж неделя, как я об этом раздумываю; и что же, в сущности, разве Франция стала несчастней с тех пор, как она республика? Нет, напротив. Но тогда как