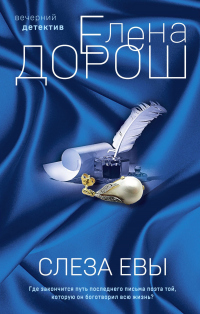Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
Разбирая старый архив, профессор Бартенев и его помощница Глафира Вознесенская наткнулись на странное письмо. Как оказалось, оно связано с судьбами известных персон, живших два столетия назад. А еще в конверте обнаружилась женская серьга. Поиски ее хозяйки привели к удивительным открытиям и… привлекли внимание преступников. Ведь раритеты стоят дорого. Очень дорого… Где закончится путь последнего письма поэта той, которую он боготворил всю жизнь?Елена Дорош пишет для тех, кто не впадает в уныние, не боится испытаний и ждет от жизни только хорошее. Ее книги – не просто детективы. Они не только о любви. Каждая открывает увлекательную, порой малоизвестную сторону человеческого бытия.
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Елена Дорош»: