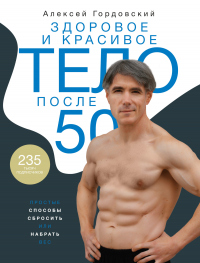Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
«Былое и думы» – автобиографическая хроника, признанная литературоведами и историками отечественной прозы главным произведением автора и одним из ключевых литературных произведений XIX столетия в мемуарном жанре.В эту книгу вошли пятая и шестая части «Былого и дум», посвященных жизни Герцена после отъезда из России – сначала во Франции, потом в Италии, вновь во Франции и, наконец, в Англии, которой надолго предстояло стать для автора новой родиной.Англии, в чьей столице пылали политические страсти, ведь в ней вынужденно обосновались политэмигранты буквально всех мыслимых степеней радикальности и всех возможных учений и систем из множества европейских стран…Мемуарная составляющая перемежается яркими картинами политической жизни Западной Европы бурной середины XIX столетия, философскими интермедиями, очерками и статьями.
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Александр Герцен»: