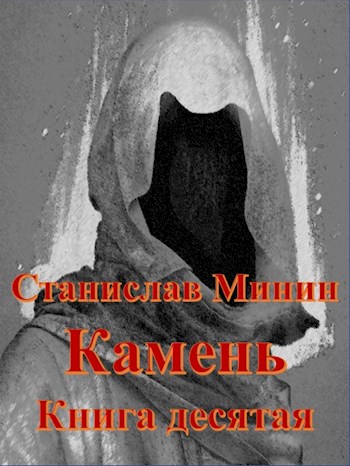Шрифт:
Закладка:
Это четвертый том цикла "Царь нигилистов". Первый том здесь: https://author.today/reader/172049 Не так важны идеи, как работа для их воплощения. Не так важны знания, как способность убедить в своей правоте. Не так важны пророчества, как вера в них тех, кто рядом. А история катится вперед по проторенной дороге: завершается завоевание Кавказа, близится освобождение крестьян, Герцен по-прежнему издает «Колокол», Пирогов оперирует и руководит киевским учебным округом, Бакунин в сибирской ссылке, Достоевский вернулся в Петербург, Никса учится, дядя Костя путешествует и играет на виолончели. Война далеко, но слышны ее отголоски. Новые знакомства, новые увлечения, новые проекты и новые препятствия (куда же без них). И непонятно удастся ли сдвинуть хоть на йоту этот неповоротливый локомотив, упорно катящийся в пропасть.