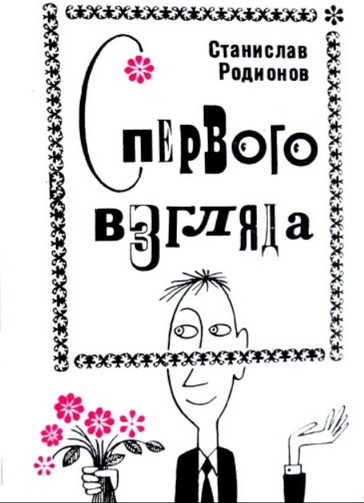Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
отсутствует
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Станислав Васильевич Родионов»: