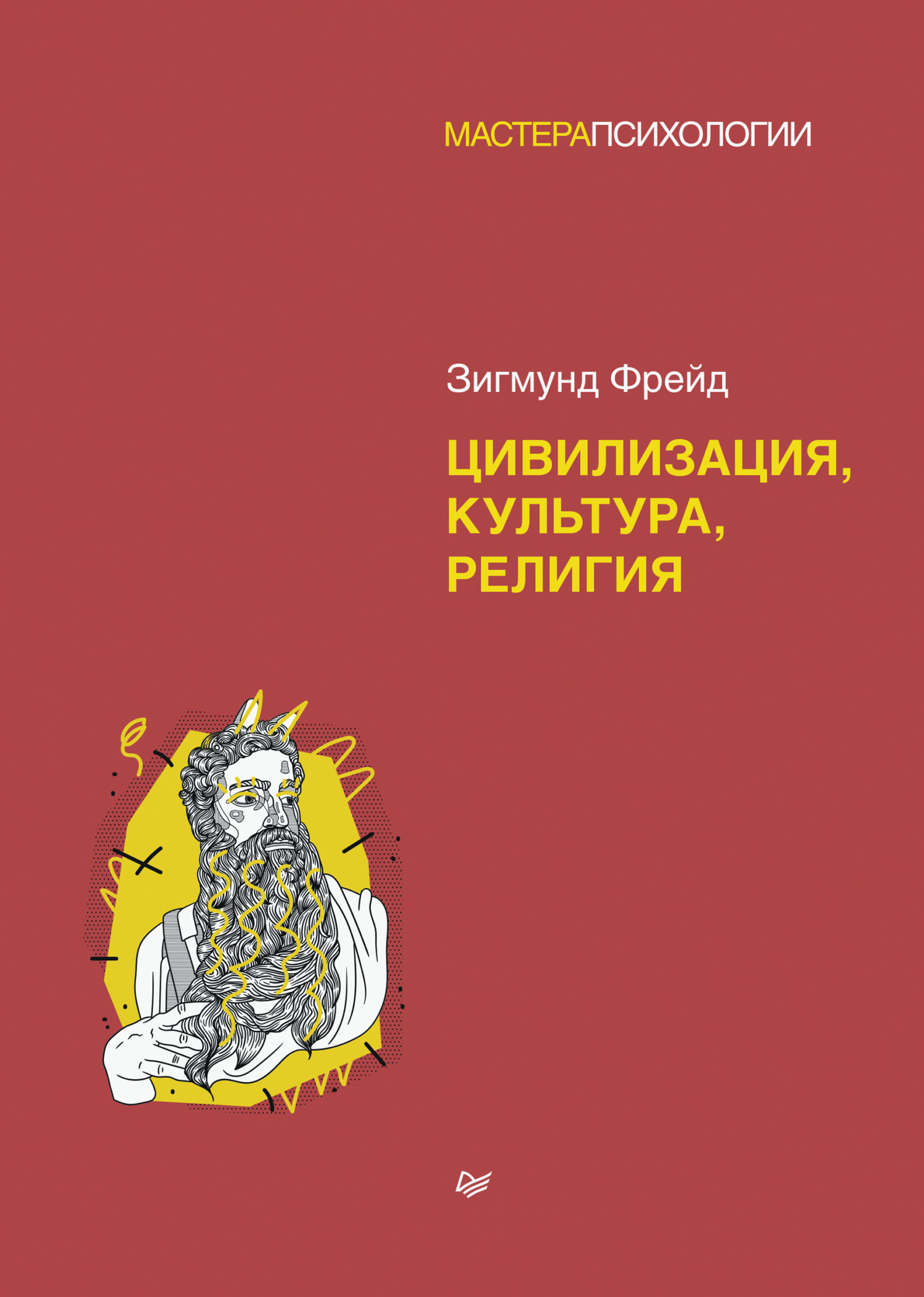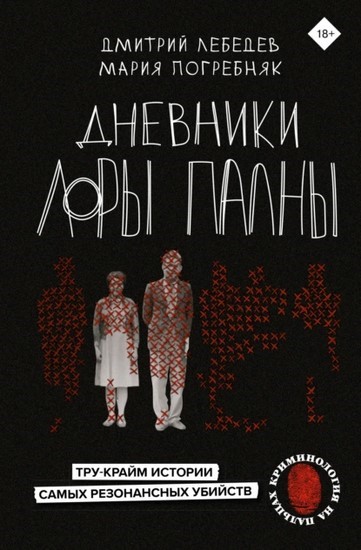Шрифт:
Закладка:
«Отнять у народа человека, которым он гордится как величайшим среди своих сынов, – за такое дело берешься неохотно и не с легкой душой, тем более если сам к этому народу принадлежишь. Но никакие поучительные примеры не подвигнут меня отставить истину ради мнимых национальных интересов», – так начинается «Человек Моисей», последняя работа великого психолога.Сочинения, включенные в эту книгу, специалисты относят к позднему периоду, когда Фрейд совершает неожиданный поворот к теме религии. В первой работе он объявляет религию всеобщим неврозом, во второй – вглядывается в природу древнего ужаса и благоговения человека перед невыносимым божественным Отцом. Оба произведения представлены в переводе выдающегося филолога и философа В. В. Бибихина и дополнены его примечанием к последней работе Фрейда.В формате PDF A4 сохранён издательский дизайн.