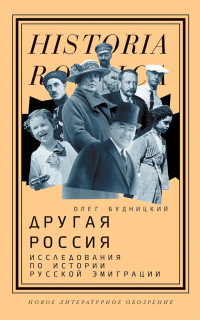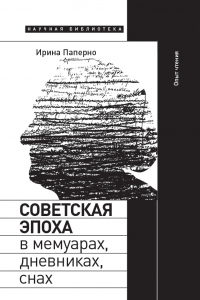Шрифт:
Закладка:
“Была Прибалтика – стала Прое#алтика”, – такой крепкой поговоркой спустя четверть века после распада СССР описывают положение дел в своих странах жители независимых Литвы, Латвии и Эстонии. Регион, который считался самым продвинутым и успешным в Советском Союзе, теперь превратился в двойную периферию. России до Прибалтики больше нет дела – это не мост, который мог бы соединить пространство между Владивостоком и Лиссабоном, а геополитический буфер. В свою очередь и в «большой» Европе от «бедных родственников» не в восторге – к прибалтийским странам относятся как к глухой малонаселенной окраине на восточной границе Евросоюза с сильно запущенными внутренними проблемами и фобиями. Прибалтика – это задворки Европы, экономический пустырь и глубокая периферия европейской истории и политики. И такой она стала спустя десятилетия усиленной евроатлантической интеграции. Когда-то жителям литовской, латвийской и эстонской ССР обещали, что они, «вернувшись» в Европу, будут жить как финны или шведы. Все вышло не так: современная Прибалтика это самый быстро пустеющий регион в мире. Оттуда эмигрировал каждый пятый житель и мечтает уехать абсолютное большинство молодежи. Уровень зарплат по сравнению с аналогичными показателями в Скандинавии – ниже почти в 5 раз. При сегодняшних темпах деградации экономики (а крупнейшие предприятия как, например, Игналинская АЭС в Литве, были закрыты под предлогом «борьбы с проклятым наследием советской оккупации») и сокращения населения (в том числе и политического выдавливания «потомков оккупантов») через несколько десятков лет балтийские страны превратятся в обезлюдевшие территории. Жить там незачем, и многие люди уже перестают связывать свое будущее с этими странами. Литва, Латвия и Эстония, которые когда-то считались «балтийскими тиграми», все больше превращаются в «балтийских призраков». Самая популярная прибалтийская шутка: «Последний кто будет улетать, не забудьте выключить свет в аэропорту».