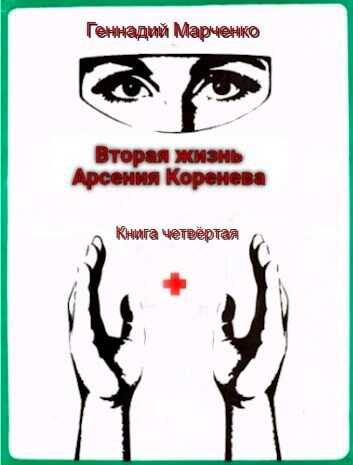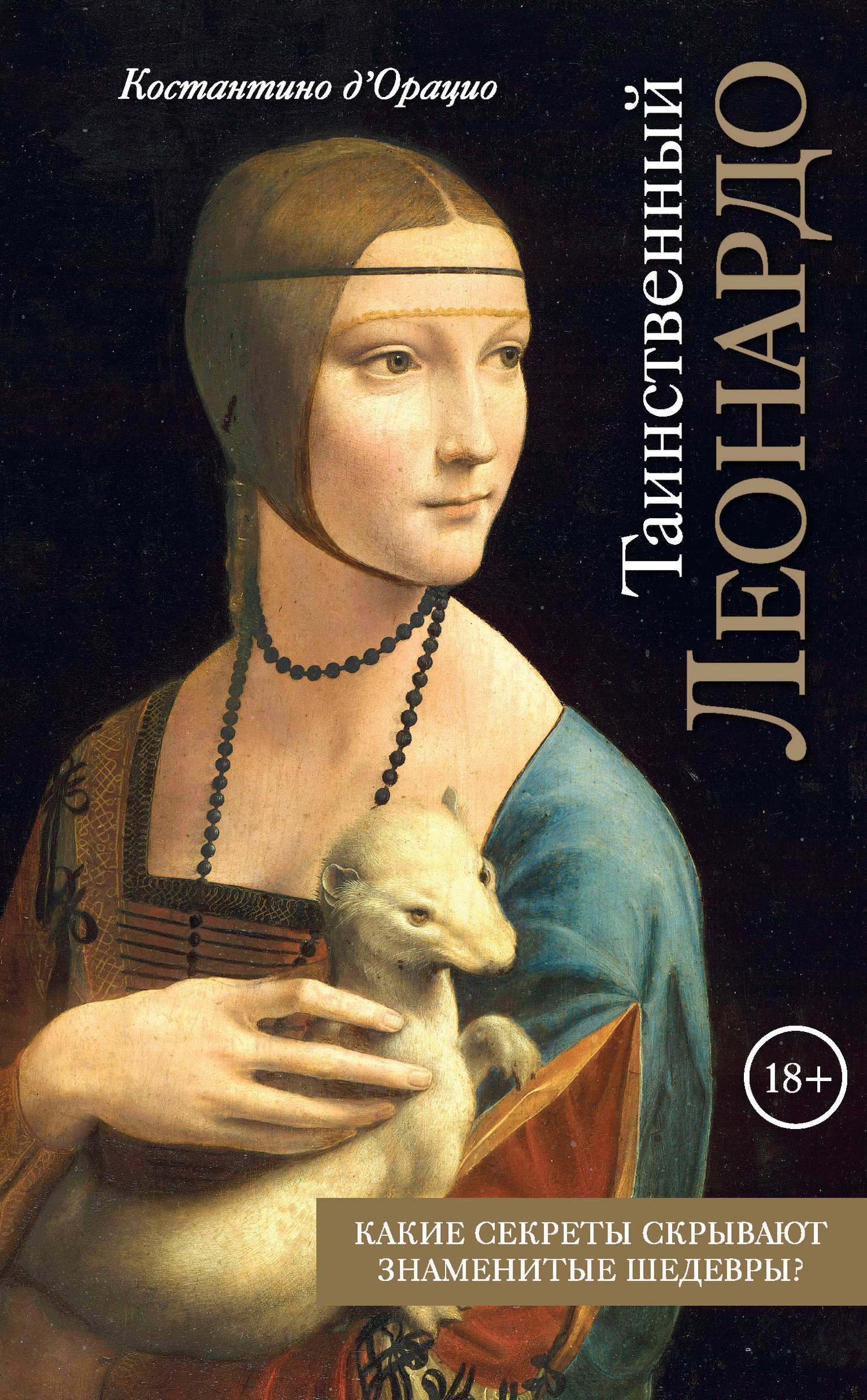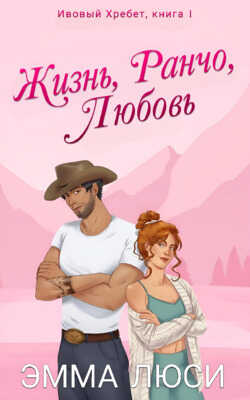Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
Ефим Сорокин покоряет Лас-Вегас, но при этом в его услугах нуждается и Родина. Чтобы помочь СССР в войне, необходимо выкрасть сокровища из древнего индийского храма. Путешествие оказывается полным приключений, где герою то и дело приходится рисковать жизнью.
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Геннадий Борисович Марченко»: