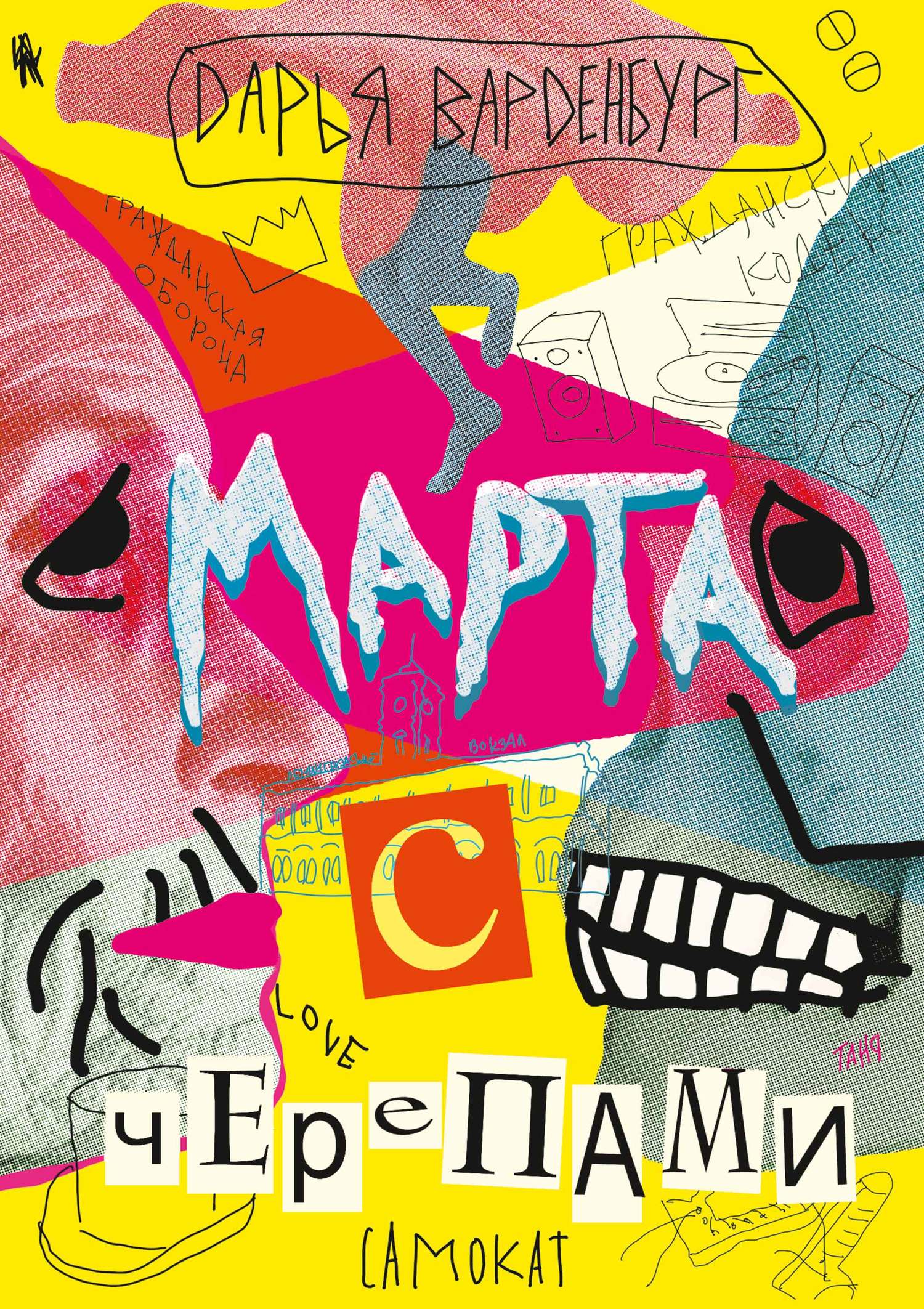Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
В момент очередного острого политического кризиса наш современник погибает в США и в силу неизвестных причин оказывается в тушке М. С. Горбачева.
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Александр Афанасьев»: