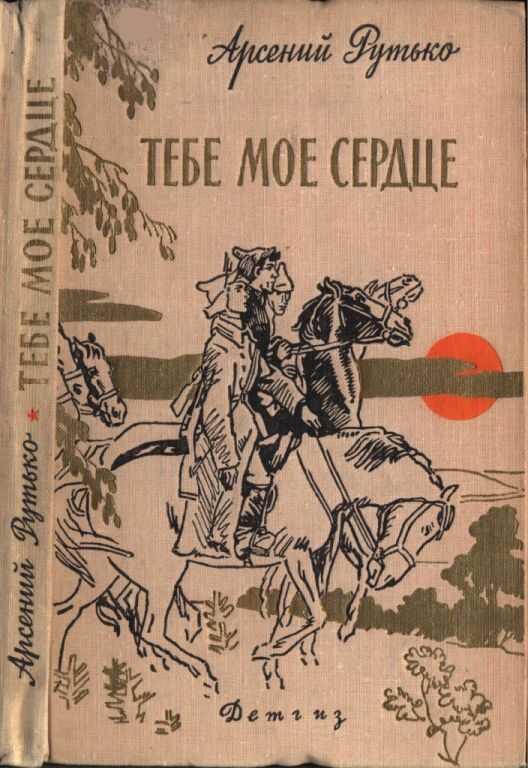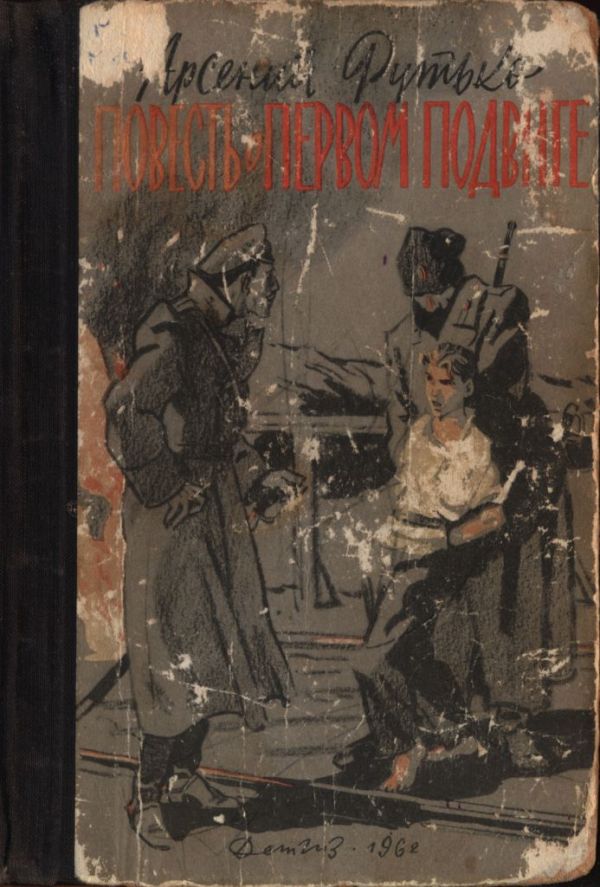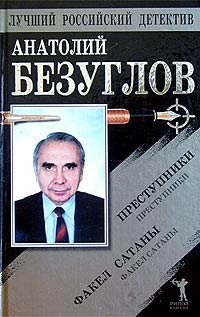Шрифт:
Закладка:
У каждого человека бывают в жизни моменты, когда необходимо собрать все свое мужество, всю свою волю и рисковать жизнью во имя дела, которому веришь и служишь, которому отдано твое сердце. Юность Данилы Кострова совпала с мужественными и героическими годами революции и гражданской войны, годами больших испытаний и побед, с годами послевоенной разрухи, когда нашему народу приходилось напрягать все силы, чтобы начать строительство нового мира. Но разбитый в открытом бою враг не сложил оружия: по всей стране вспыхивают пожары контрреволюционных мятежей, звучат предательские выстрелы из-за угла и даже на жизнь Владимира Ильича замахиваются черные, подлые руки. О том, как Даньке Кострову и его старшим товарищам — Сергею Вандышеву и Роману Корожде — удалось раскрыть один вражеский замысел, и рассказывает эта повесть.