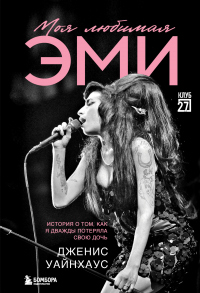Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
Когда долгожданное чудо все-таки случается, стоит задуматься, а чудо ли это вообще и чем ты за него заплатишь. Такое открытие ждет начинающего писателя Петра Сапрыкина, автора одного-единственного романа с запутанной судьбой. Терзаемый сомнениями и муками творчества, он уничтожает свою рукопись. А потом неожиданно обретает ее вновь, чтобы, не справившись с искушением, переписать ради публикации. Какие силы стоят за издателем, требующим внести изменения в роман, и предстоит разобраться главному герою.
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Елена Викторовна Яковлева»: