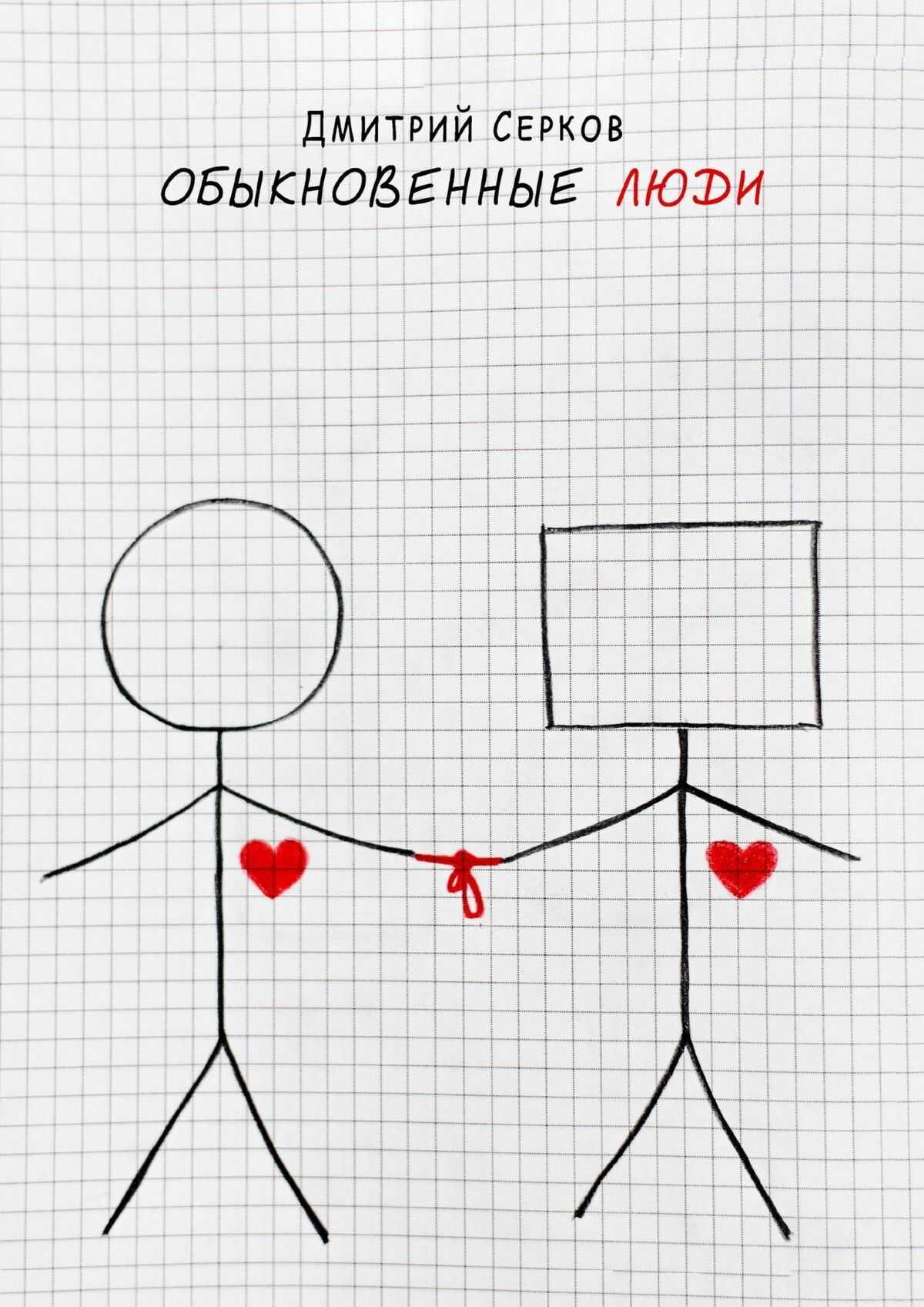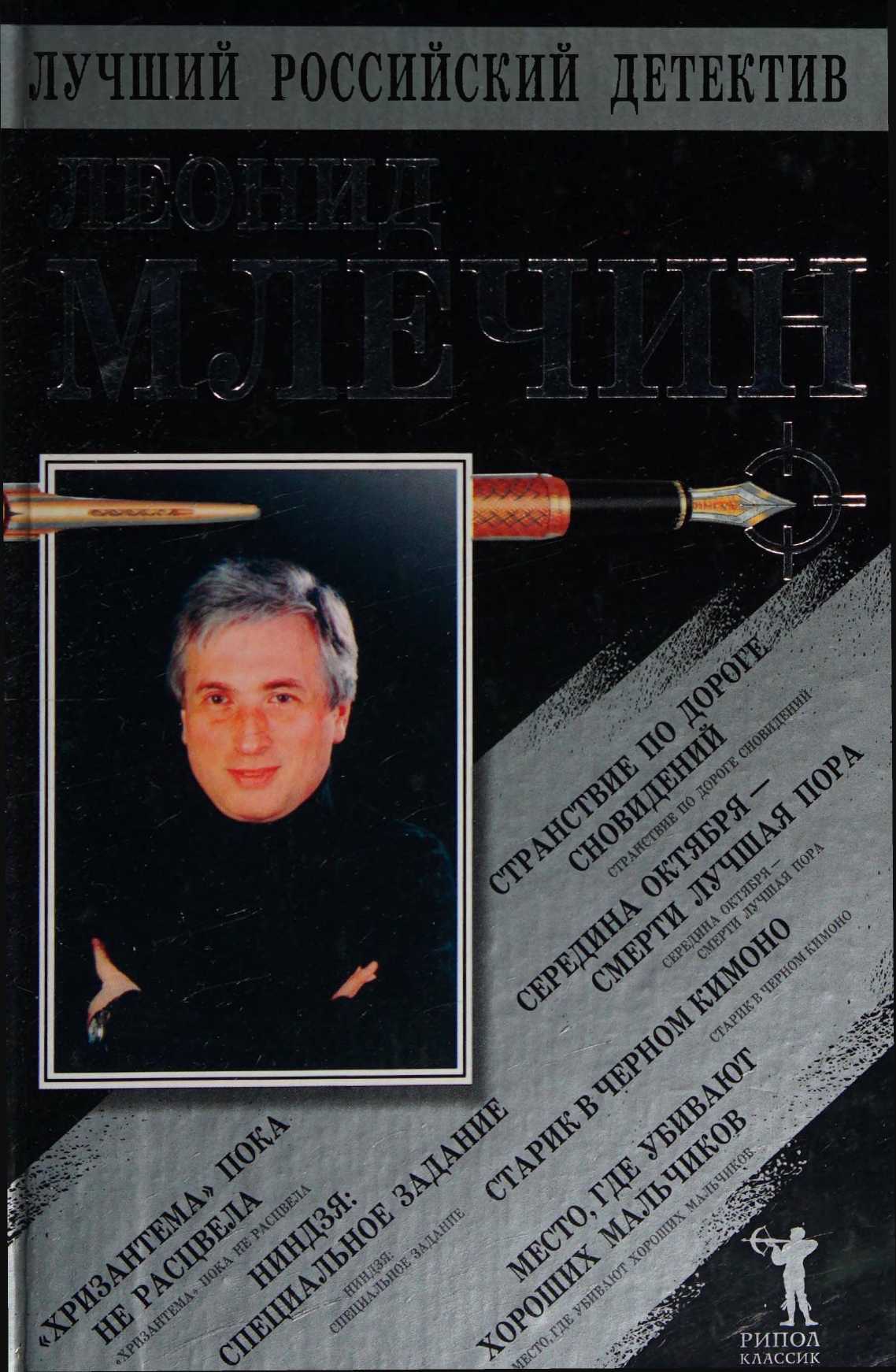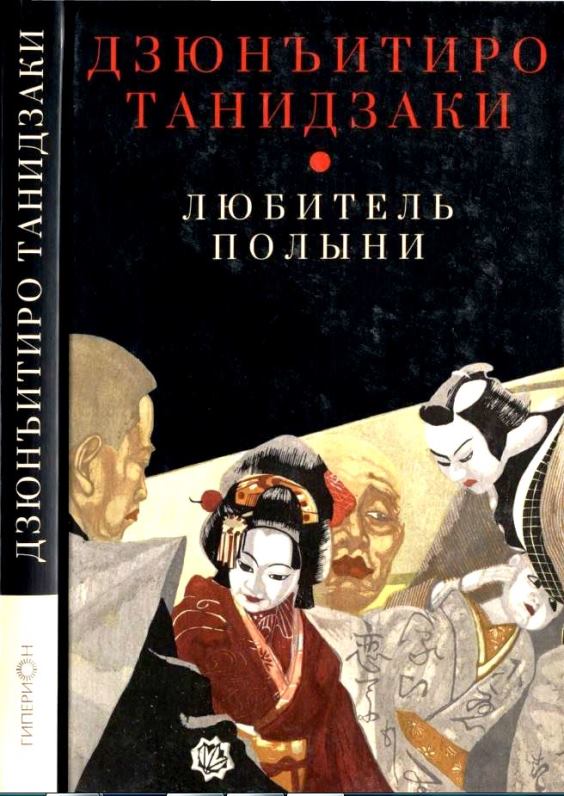Шрифт:
Закладка:
Она замолчала.
– Ладно, не дуйся, – извиняясь, буркнул я.
– Я опухоль, что мне ещё делать, кроме как раздуваться! – еще больше надулась она.
– То есть ты не хочешь на электричке?
– Хочу! – обиженно просопела Света.
– Тогда собирайся! – радостно подскочил я.
Был Тот самый летний вечер. И под словами «Тот самый» я понимаю «Тот самый». Я думаю, у каждого был свой такой. А если и не было, то надеюсь, что обязательно случится. Вечер, который создан для прогулки, которая создана, чтобы не заканчиваться.
Невесомый пух то ли падал на землю, то ли поднимался с земли на небо, теряясь в медленном шелесте. Это был еще не закат, но уже и не день. Состояние совершенного между, которое так хрупко, что любая стрекоза может перевесить чашу весов. И пахло «Летом». Надо сказать, что под словом «Лето» я понимаю не «лето», а именно «Лето». А это совсем разные вещи. Кто-нибудь, возможно, и может разобрать «Лето» на составляющие его запахи, но точно не я. Для меня этот запах никогда не поддавался ни классификации, ни делению. Это «Лето» либо есть, либо его нет. И тем вечером оно определенно было. Как и лопухи, что так неуклюже повылазили, грея свои зеленые животики. Только я увидел эти неуклюжие лопухи, я сразу понял. Я запомню этот вечер. Я не ошибся – запомнил. Лопухи тому свидетели. Такие неловкие на фоне стройных модельных травинок.
Миновав лопухи, мы оказались на маленькой открытой станции, покрывшейся перекатывающимися облаками. Я еще не сел в электричку, но уже не хотел из нее выходить. И тем не менее электричка приехала, а потом скрипела.
Странное дело. Я поехал, чтобы говорить, но говорить совсем не хотелось. Знаете, бывает еще и естественная тишина – полная противоположность той неестественной. Нежная и тонкая. Слова слишком грубы для нее. И счастливчики те люди, которые хоть раз в жизни сталкивались с ней или она – с ними. Эта естественная тишина, в отличие от той, другой, на самом деле не является молчанием, как может показаться на первый взгляд. Вовсе нет. Это форма общения. Сердечная форма. И в ней только два положения: тепло или холодно.
Когда мы молча ехали, мне было тепло.
Да и зачем вообще говорить, когда все и так понятно. Обмен идет. Все и так всё понимают. Я даже был по-своему счастлив. По-своему, потому что не до конца. Я не чувствовал себя одиноким, но я чувствовал одиночество, что впереди.
Что неизбежно, как и мое выздоровление,
что неизбежно, как и моя смерть.
И лишь электричка существовала здесь и сейчас, между двумя неизбежностями, между природой опухоли и природой человека.
Пропели поздние птицы.
«Слышит ли она их?» – думал я, думал, но не спросил.
– Интересно, а о чем она сейчас думает?
Я так и не узнал…
Наверное, тяжело быть опухолью.
Наверное, тяжело знать, что скоро умрёшь.
Но вечер заканчивался. Это естественно. Это закон природы.
Напоследок я купил какой-то просто неприлично красивый творожный торт и неприлично много трубочек с кремом и вареной сгущенкой. Я так и не смог определиться, какие из них вкуснее, а потому всегда брал и те, и другие из расчета, что однажды я все-таки смогу решить эту вкусную задачку.
Когда мы вернулись домой, я спросил:
– Ну и как?
– Твоё сердце, оно стало биться как-то по-другому, – смущенно произнесла Света.
– И как? – раскладывая трубочки на две стороны, спросил у нее я.
– Не знаю. Но мне понравилось. Словно ты перестал отвергать меня. Словно теперь не я греюсь об тебя, а ты греешь меня. Это тепло. Очень.
– Знаешь… а давай вместе посмотрим что-нибудь. Ну, то есть я посмотрю, а ты почувствуешь! – вспомнив про ее желание, предложил я. – Хочешь почувствовать «Звездные войны»? Тебе понравится. Ты же моя опухоль. Тебе точно понравится!
– Давай! – согласилась она и плакала, когда пал Энакин Скайвокер.
Мне было тепло. Я знал, что это значит. Света меня научила.
Тогда я впервые задумался: может ли любовь быть болезнью?
И если это так: стоит ли она того, чтобы болеть?
Моё сердце любило ту, которая делала ему больно.
И чем сильнее любило, тем больнее ему становилось.
И тем больнее было думать о том, что эту любовь мне придется из себя вырезать. Не ради нее. Ради себя.
Измерил я температуру – 39.
– Я не хочу тебя вырезать, – сказал я ей.
– Не говори ерунды. Я умру в любом случае, – сухо ответила она. – Разница только в том, умрёшь ли ты. Моя смерть неизбежна, но тебя мы еще можем спасти.
Я подумал. А нужно ли это? Какой смысл в Таком спасении?
– Свет, слушай! Я знаю, что уже спрашивал, но тебе точно обязательно… Ну это… расти, убивать меня. То есть… ну, мы могли бы жить так и дальше. Вдвоём. Я бы не вырезал тебя, а ты бы перестала убивать меня. Мы могли бы тогда жить оба. Смотреть фильмы и кататься на электричке. Если бы ты остановилась…
Света покачала головой.
– Нет. Это невозможно. Я пыталась. Очень пыталась. Но я никак не могу перестать расти. Как не можешь перестать расти и ты. Такова наша природа. Такова природа опухоли – чтобы жить, она должна отнимать жизнь. Жаль, что это жизнь твоя. Я родилась, чтобы убить тебя, понимаешь? Но я не хочу этого. Я готова умереть для твоей жизни. – она резко замолчала, а я понял, что теперь больно ей.
– Ты говорила, что тебе нравится сахар?
– Сахар? Да. Очень люблю. Он такой сладкий и вкусный.
Я подошел к квадратной пачке и достал из нее кубик сахара
– Хочешь, я тебя угощу!
– Нет, не надо, – отрезала Света, точно это я ее опухоль, а не она моя.
– Почему? Тебе же нравится сахар.
– Да. Очень нравится.
– Тогда почему отказываешься? – растерялся я (если хочешь, ешь – вот главное правило питания, за исключением разве что каннибализма).
– Потому что ты мне нравишься больше, – сказала она.
– Не понимаю я тебя… – прогудел я, перебирая в пальцах сладкий кубик.
– Ты забыл, кто я? – мрачно произнесла она. – Чем больше сахара ты мне даешь, тем быстрее я расту. Чем быстрее я расту,