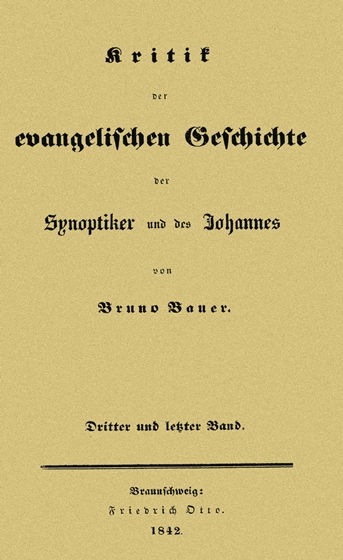Шрифт:
Закладка:
«Себастьяно, пой!» — снова требует мать.
Не веря своим ушам, нажимаю «Стоп». Двадцать три года я жаждала еще раз услышать отцовский голос, наконец услышала его и… не узнала.
Хочу перемотать назад, но боюсь испортить пленку — вдруг порвется?
Пусть этот голос, который должен снова стать частью моего настоящего, скажет что-нибудь еще.
«Пуск».
Лента, пожалуйста, только не обрывайся.
Отец выполнил мамину просьбу и запел, его голос из еле слышного превратился в мощный, звучный, сияющий. Мои губы раздвигаются в улыбке, и я смеюсь, смеюсь, безудержно смеюсь.
Он поет, поет и поет. Комната наполняется его именем, его телом, его голосом и его запахом, а ночь окутывает пролив и город, окутывает папино исчезновение, мамину кассету, мой смех, слезы и все, что когда-либо происходило на Земле.
Неизжитая печаль
Вкус кофе со льдом смешался со вкусом свежеиспеченной душистой булочки с глазурью и сливок, которые я добавила в бокал. Перед мамой стояла порция граниты[17] из шелковицы и фисташек и блюдце с такой же булочкой, как у меня. Мама взяла булочку и откусила кусок сверху, где красовалась аппетитная шапочка глазури.
— Кто же начинает есть булочку со шляпки? — подтрунила я над матерью.
Шляпка была самым лакомым фрагментом таких булочек, и родители еще в детстве учили меня оставлять ее напоследок, как главный приз.
— Зануда ты, Ида. Вечно к чему-то придираешься.
— Я плохо спала. Точнее, не спала вообще.
Сегодня в семь утра я пришла на кухню, мама уже ставила кофе. Я предложила ей позавтракать где-нибудь в кафе.
Мне хотелось бы рассказать ей о том, что я пережила минувшей ночью, о голосах, которые звучали на старой кассете, о том, как я опешила, не узнав отцовский тембр и интонации. Хотелось бы поделиться своим открытием — оказывается, истинный голос отца совсем не походит на то, каким он запечатлелся в моей памяти.
— А я спала на удивление отлично. Чем ты занималась, читала? — рассеянно полюбопытствовала мама.
— Да всем понемножку.
Я допила кофе и облизала край бокала. Сицилийские сливки обладают особым вкусом, точнее, отсутствием вкуса, которое отличает их от приторных сливок, производимых в других регионах Италии. На моем родном острове сливки никогда не были ни слишком сладкими, ни слишком жидкими, ни слишком искусственными. Я уже собралась приняться за шляпку, оставшуюся от чудесной булочки, как вдруг мама утащила ее с моего блюдца и отправила себе в рот. Я оторопело уставилась на нее.
— Вот, деточка, учись. Нельзя оставлять лучшее напоследок.
— Мама, ты что? Не вы ли с папой столько раз мне твердили, что шляпку едят в самом конце?!
— Ну, детям нужно учиться терпению. Взрослым ждать уже ни к чему.
Жизнь есть ein Augenblick, мгновение ока; маленькая девочка Ида выросла и теперь создает для себя новые правила. Ей предстоит оставить в прошлом многое, и в первую очередь — глагол «ждать».
Мы вернулись домой и решили подняться на крышу, чтобы поздороваться с Де Сальво. Я отправилась наверх, мама задержалась внизу — хотела прихватить с собой перечень работ, которые еще не доведены до конца.
На крыше никого не было. Из кармана шортов я вынула листок, который нашла вчера в ящике среди бумаг и блокнотов, скрывавших красную шкатулку. На листке моим студенческим почерком было выведено стихотворение Амелии Росселли:
Если плач, который сменяется тоской,
отдаст мне свою лютню,
силой неизжитой печали я смогу
превратить отрешенность
в неуклонную решимость.
Эти слова как будто были сказаны для Никоса.
Я все еще не пришла в себя после нашего вчерашнего откровенного разговора и ощущала смесь уважения и ужаса перед кошмарной историей из его жизни, рассказанной столь простыми словами. Меня волновал ответ на вопрос, как Никос сумел найти в себе силы справиться с болью утраты и, главное, с невозможностью выразить эту боль, ведь парнем Анны был другой человек. С правовой точки зрения Никос оказался всего лишь свидетелем несчастного случая, вину за который тем не менее он всецело возлагал на себя. Никосу довелось пережить тайную любовь и предстояло одному нести ее тяжесть на протяжении долгих лет. Что касается Анны, которая одновременно встречалась с Никосом и Марчелло, полагаю, она тянула с выбором потому, что считала, будто впереди у нее много-много времени и в свой срок все разрешится, однако жизнь есть ein Augenblick, мгновение ока, неправильность — ее единственное правило, события просто совершаются с нами, в то время как мы тешим себя мечтой, что вот-вот научимся управлять ими. Вот почему придуманные правдивые истории стали для меня спасением — моя власть над ними была абсолютной. Я сама выбирала темы, сама создавала персонажей и выстраивала их жизненный путь, я свысока внимала их мольбам, словно какая-то царственная особа. Сочиняя рассказы, я погружалась в иллюзию самодостаточности и не хотела с ней расставаться.
С беседы с Никосом мои мысли переключились на последний телефонный разговор с мужем, и я задумалась, почему не могу разобраться с собственными сложностями с тем же всемогуществом, с которым распоряжаюсь судьбами своих героев. Да, мы с Пьетро упали, но ведь упали мы вместе, так, может, если возьмемся за руки, сумеем снова подняться? Эх, сдается мне, сломанные (спашате, как сказали бы на своем диалекте мессинцы) вещи вновь цельными не становятся.
Услыхав торопливые тяжелые шаги, я отвлеклась от своих размышлений. Стало быть, Де Сальво припозднились, но сейчас все-таки приступят к работе.
Однако вместо Никоса и его отца на террасу выбежала моя мать. Вид у нее был совершенно безумный.
Мама подлетела ко мне, обняла, заплакала.
— Никос мертв, — всхлипывая, произнесла она.
Я подумала, что это шутка, и удивилась, почему такая взрослая и умная женщина, как моя мать, повелась на подобный розыгрыш.
Я подумала, что это ошибка, я подумала: «Тот, кто сообщил эту новость, что-то неправильно понял».
Я подумала, что Никоса Де Сальво перепутали с кем-то другим.
Я подумала, что со мной такого произойти не может.
Я подумала: «Это произошло со мной, а не с ним».
Мы с мамой снова стали теми, кем были всегда, — двумя женщинами, обеспокоенными протечками на крыше своего дома, рассеянно опустившими руки посреди тарарама недоделанных работ и неизжитой печали. Мы снова ошарашенно смотрели друг на друга, смотрели и ощущали