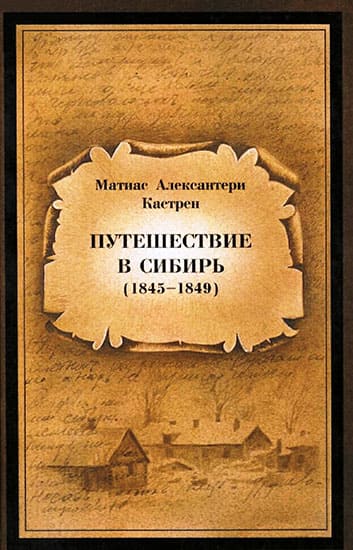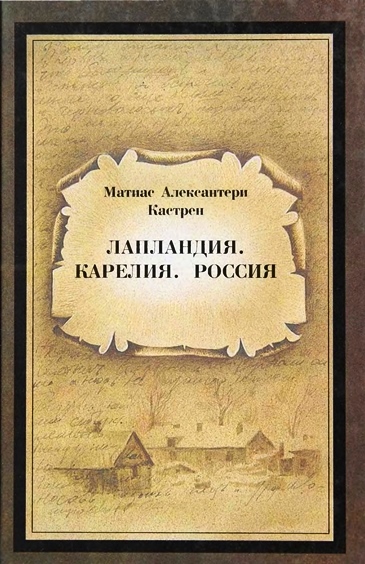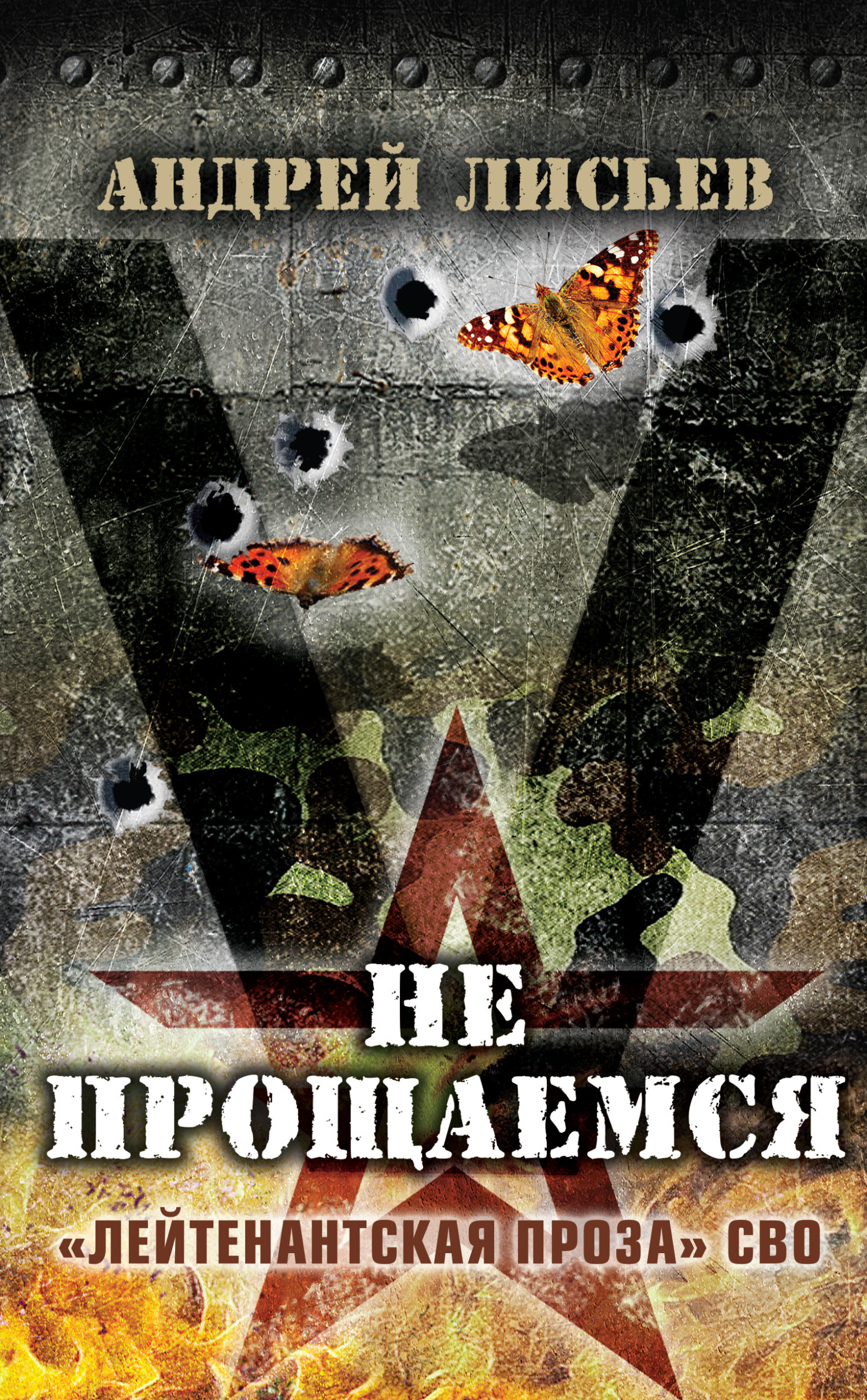Шрифт:
Закладка:
Матиас Александр Кастрен — российский филолог финского происхождения, исследователь финно-угорских и самодийских языков, финского и саамского фольклора. Родился в 1813 году в небольшом городке Тервола в семье финских шведов. Летом 1838 года совершил свою первую научную поездку в финскую Лапландию, где изучал саамский язык, а также саамский фольклор и мифологию. В 1839 году Кастрен путешествовал по Карелии, а в 1841 году отправился вместе с Элиасом Лённротом в трёхлетнюю поездку по Уралу. Этой поездке предшествовала публикация выполненного Кастреном перевода Калевалы на шведский язык. По возвращении Кастрен опубликовал монографии о языках коми и марийском соответственно. С 1851 года Кастрен был профессором Хельсинкского университета по впервые учреждённой кафедре финской филологии и работал над словарём самодийских языков. Умер от туберкулёза в 1852 году. В первый том вошли путевые записки М. Кастрена «Путешествие в Лапландию в 1838 году», «Поездка в Русскую Карелию летом 1839 года» и «Путешествие в Лапландию, Северную Россию и Сибирь с ноября 1841 до марта 1844 года».