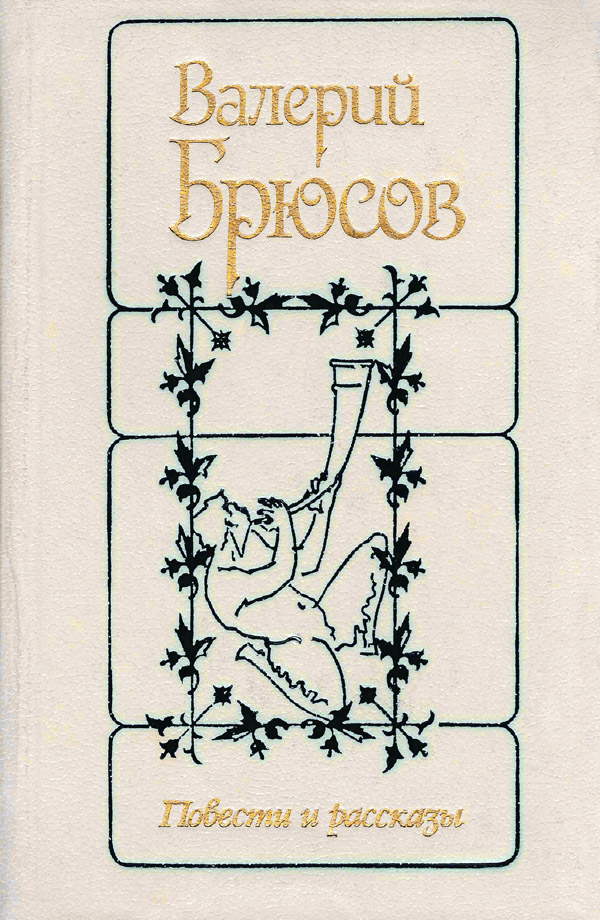Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
Талантливый кемеровский писатель Виктор Чугунов ушел из жизни, не дожив до сорока лет, не обретя должного признания, бесспорно им заслуженного. Роман «Бери и помни» повествует о жизни шахтеров. Шахтерский поселок, его будничная жизнь, ровное течение бытия… Все приметы этого мира увидены зорким глазом художника и ярко и достоверно отражены в романе.
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Виктор Александрович Чугунов»: