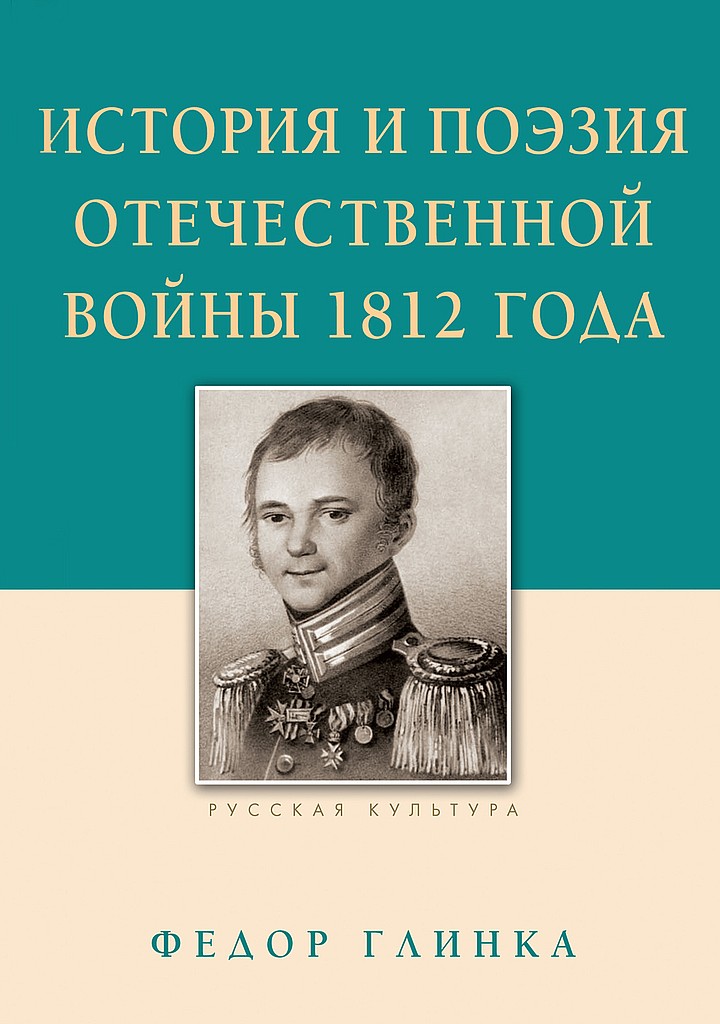Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
Как и предыдущие книги Франца Таурина — «Ангара» и «Гремящий порог», роман «Путь к себе» посвящен рабочим — строителям сибирских гидростанций. Главный герой романа, экскаваторщик Алексей Ломов, — необычайно удачливый, способный и беспечный человек. Привыкнув к легкости, с какой ему все дается, и к всеобщим похвалам, Алексей считает, что ему все позволено, мало задумывается над своими поступками и не очень считается с мнением коллектива. На фоне большой стройки показаны характеры, взаимоотношения людей, тесно связанных со строительством заполярной ГЭС, нелегкая судьба Алексея Ломова — его невольное участие в темных махинациях преступной шайки, тюрьма, стыд перед товарищами после отбытия наказания.
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Франц Николаевич Таурин»: