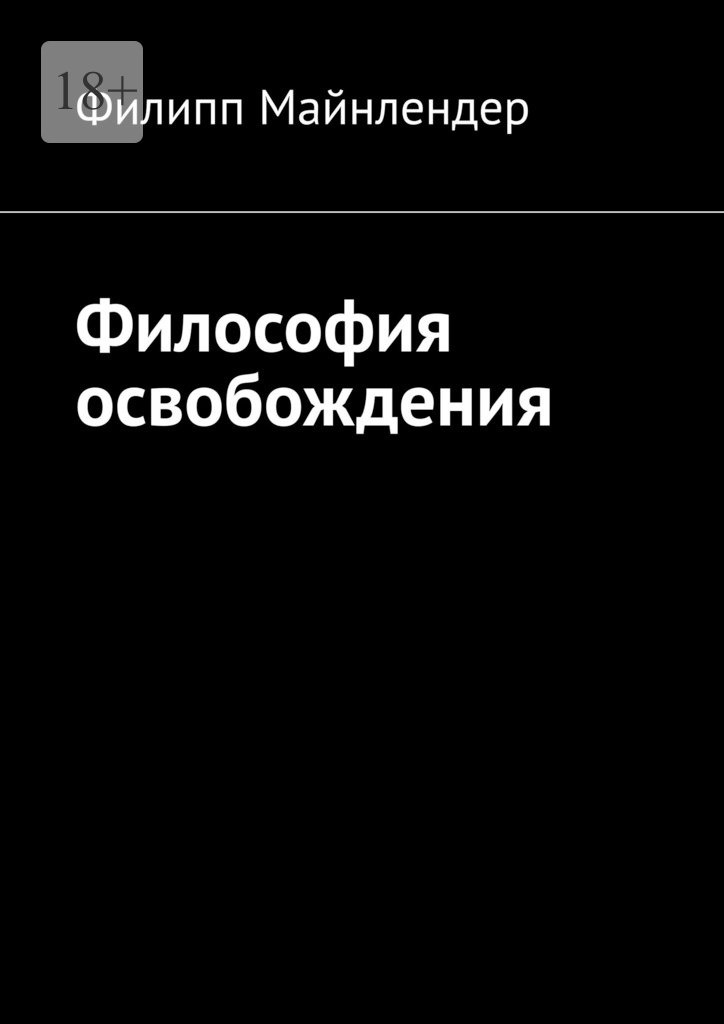Шрифт:
Закладка:
«Если ты долго смотришь в бездну, то бездна тоже смотрит на тебя» – эти слова принадлежат Фридриху Ницше, которого по праву считают одним из предшественников экзистенциальной философии. К числу её ключевых понятий относится «пограничное состояние» («пограничная ситуация») – состояние страха и тревоги перед физическим «ничто» (небытием, смертью). Лишь в пограничной ситуации нам открывается подлинное существование: мы становимся сами собой. Жан-Поль Сартр, самый известный представитель экзистенциализма, в своих работах исследовал влияние пограничных состояний, страха перед «ничто» в различных областях человеческого существования: в любовных отношениях, в общественных («мирских»), в поисках своего «Я». Наиболее известные работы Сартра на эту тему представлены в данной книге.