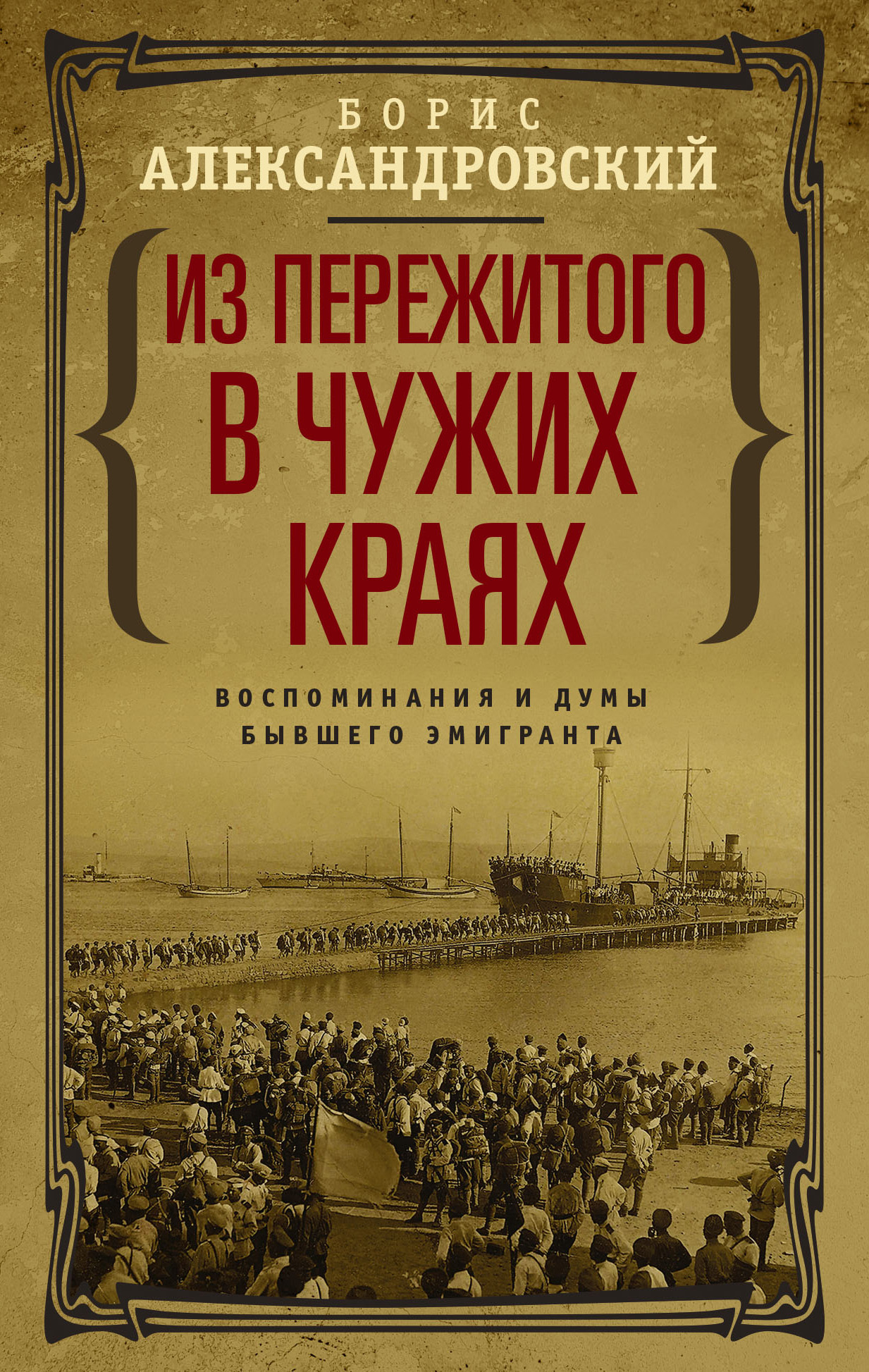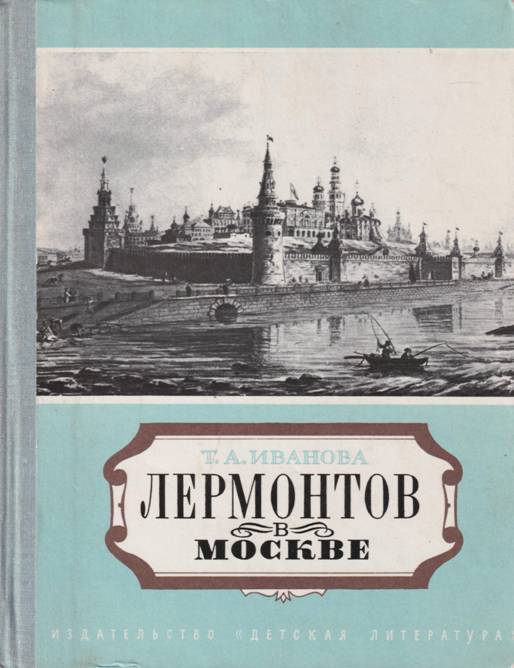Шрифт:
Закладка:
Эта книга - это личный и искренний рассказ о жизни русского эмигранта, который покинул свою родину после Октябрьской революции 1917 года и прожил в разных странах Европы и Америки. Автор, Борис Николаевич Александровс, был известным писателем, журналистом и общественным деятелем, который активно участвовал в русском зарубежном движении. Он рассказывает о своих встречах и дружбе с многими выдающимися личностями русской культуры и политики, такими как Иван Бунин, Александр Керенский, Николай Бердяев и другие. Он также делится своими наблюдениями и размышлениями о судьбе России и русского народа, о проблемах и ценностях эмиграции, о своем творчестве и вере.
“Из пережитого в чужих краях” - это не только мемуарный документ, но и литературное произведение. Автор пишет просто, ясно и увлекательно, делая свою книгу интересной и познавательной для широкого круга читателей. Он не только излагает факты и события, но и дает свою оценку и мнение по разным вопросам русской и мировой истории. Он также дает много цитат и ссылок на свои произведения и произведения других авторов, которые позволяют читателю лучше понять его мысли и чувства. Вы можете читать книгу онлайн на сайте knizhkionline.com