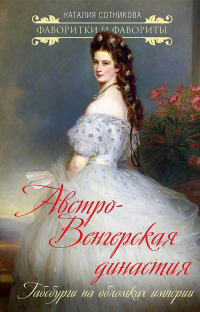Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
Эта книга — полный восхищения и любви рассказ о путешествии в горах с мудрецом Андреем Вороном, которого уже успели назвать украинским Сократом, новым Сковородой. «Он жил, как дышал», собственной жизнью явив возможность быть свободным в мире, который ловит и угнетает нас. Для современного, заблудшего среди искусственных миражей человека, свет его опыта встает опорой для спасения. Между строк искреннего письма живет горный дух, буяние живой природы, правда первобытного очага.
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Мирослав Иванович Дочинец»: