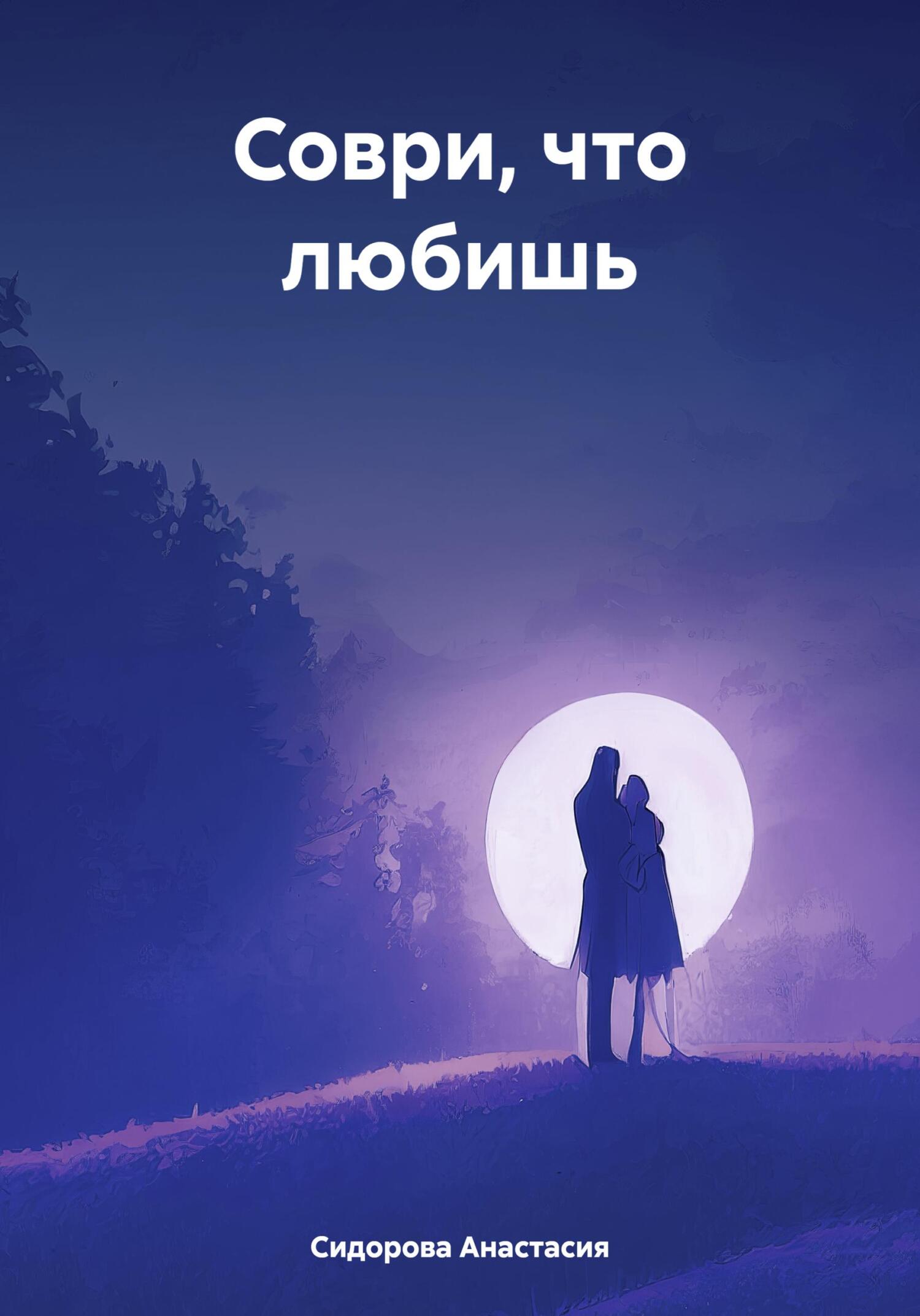Шрифт:
Закладка:
В Подмосковье бесследно пропала известная бизнесвумен Лера Паскевич. Она поехала с крупной суммой наличных в экзотическую глушь заключать контракт на покупку отеля и вскоре перестала выходить на связь. Прочесавшие местность полицейские нашли только фрагменты ее машины. Полковники МВД Гуров и Крячко предположили, что женщину чужими руками устранил муж, чтобы завладеть их совместным бизнесом. Немного погодя выяснилось, что Лера — не единственная «богатенькая дамочка», сгинувшая в этих краях. До нее здесь пропали еще две женщины и тоже с приличной суммой на руках. Лев Гуров недоумевает: неужели разгадка кроется в царящих здесь жестоких древних обычаях?.. Николай Леонов, в прошлом следователь МУРа, не понаслышке знал, как раскрываются самые запутанные уголовные дела.
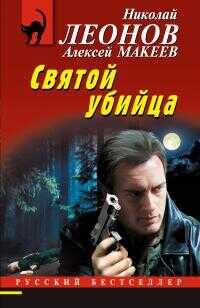



![Жизнь под обрез [сборник] - Николай Иванович Леонов](/uploads/posts/books/16607/16607.jpg)