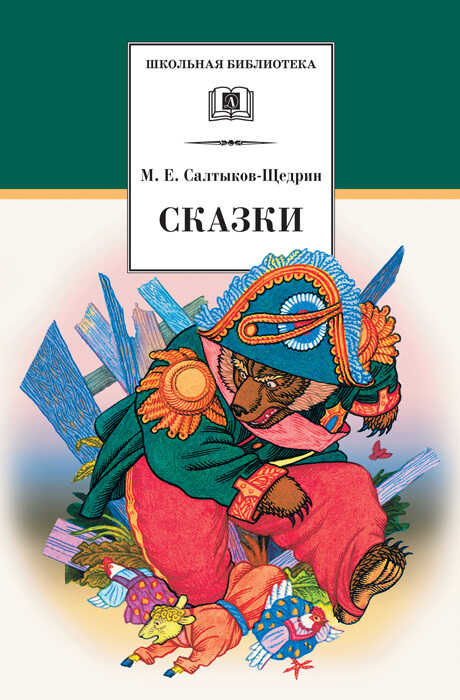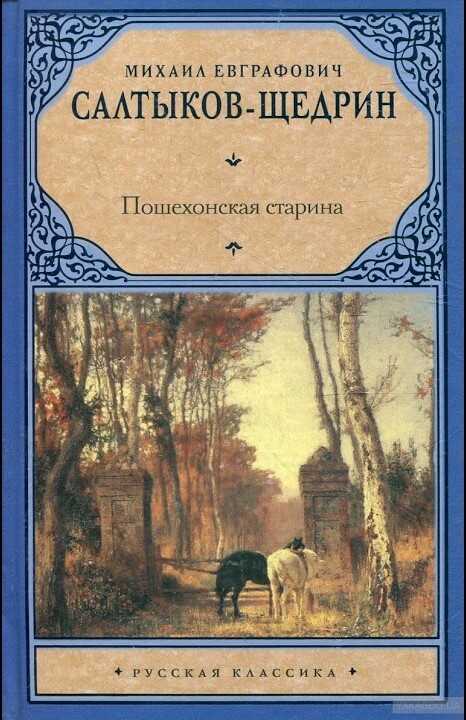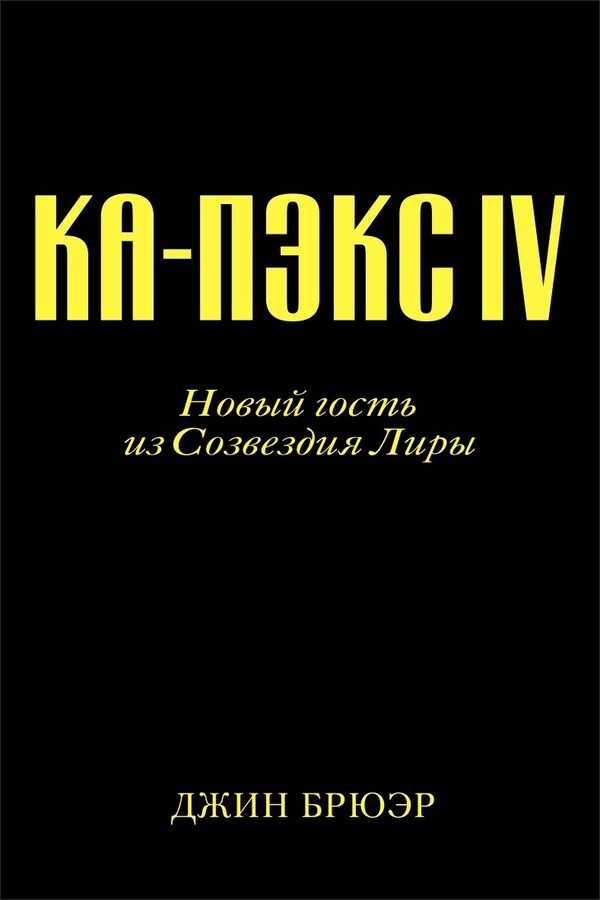Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
В настоящем издании публикуются избранные сказки М. Е. Салтыкова-Щедрина, вошедшие в золотой фонд русской классической литературы. Тексты печатаются по Собранию сочинений М. Е. Салтыкова-Щедрина в 20 т. (М.: Худож. лит., 1965–1977). В примечаниях используются материалы комментариев А. С. Бушмина и В. Н. Баскакова. Для среднего и старшего школьного возраста.
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин»: