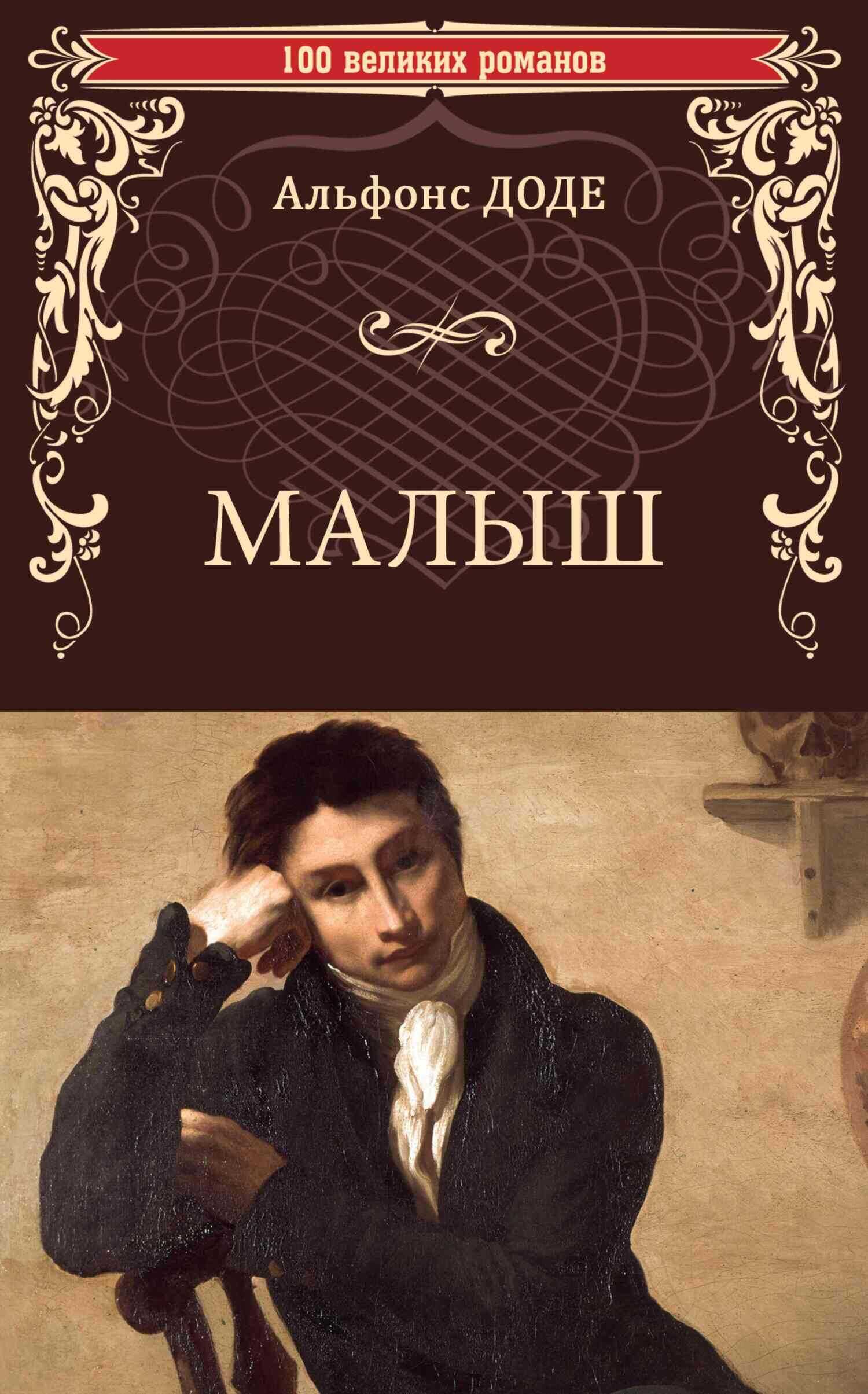Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
«Малыш» – первая публикация французского писателя-классика Альфонса Доде (1840–1897) в крупной прозе. Этот роман, вышедший в 1868 году, автор называл чем-то «вроде автобиографии», хотя некоторые события вымышлены.Роман затрагивает важную тему психологического взросления, которое для главного героя – молодого человека по имени Даниэль Эйсет – не наступило. Он полностью оправдал прозвище Малыш, которое было дано ему когда-то. Даниэль, формально являясь взрослым, в душе остается ребенком, который нуждается в том, чтобы его опекали и направляли. В таком положении вещей отчасти виноваты окружающие люди, но отчасти – сам Даниэль, которому удобно быть Малышом.
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Альфонс Доде»: