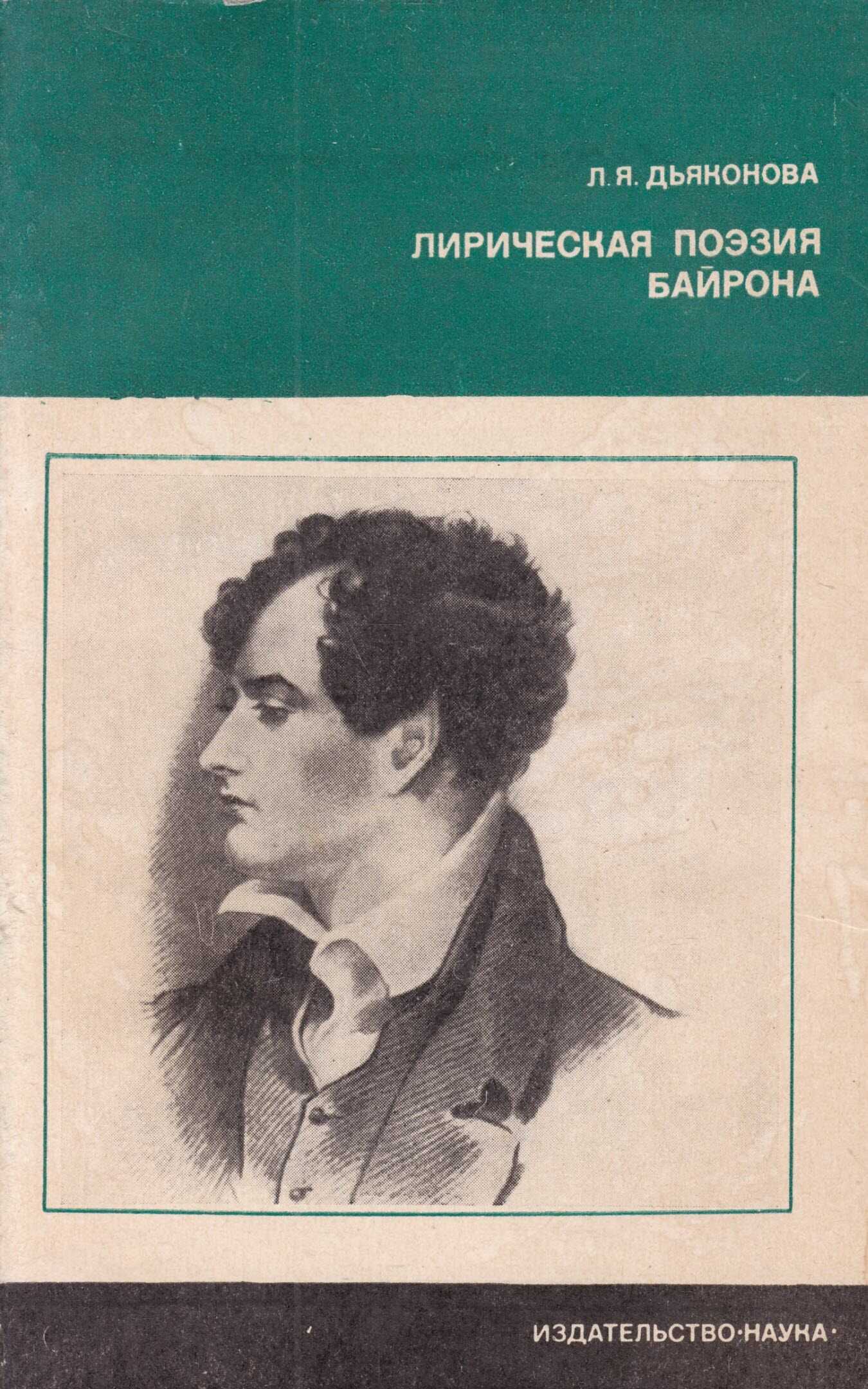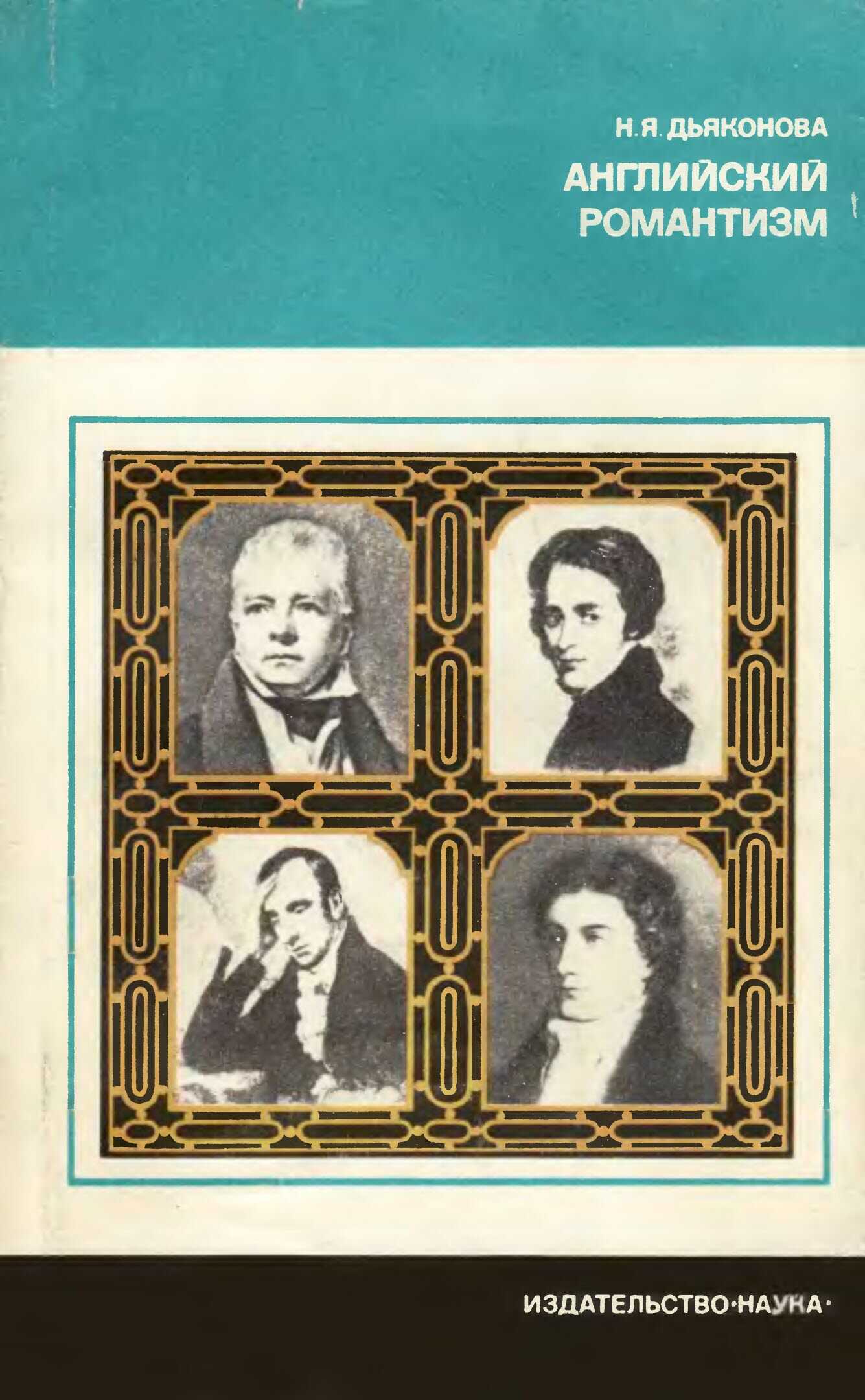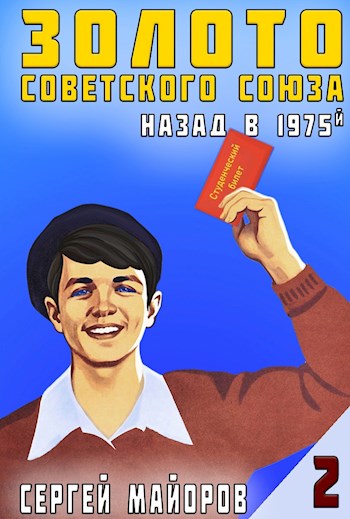Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
Книга посвящена творчеству великого английского поэта Джорджа Гордона Байрона (1788–1824). В ней освещаются важнейшие события биографии поэта, охарактеризовано его литературное окружение, кратко обрисована судьба байроновского наследия за рубежом и в нашей стране. Особое внимание уделено первому периоду творчества поэта (до отъезда его из Англии в 1816 г.).
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Нина Яковлевна Дьяконова»: