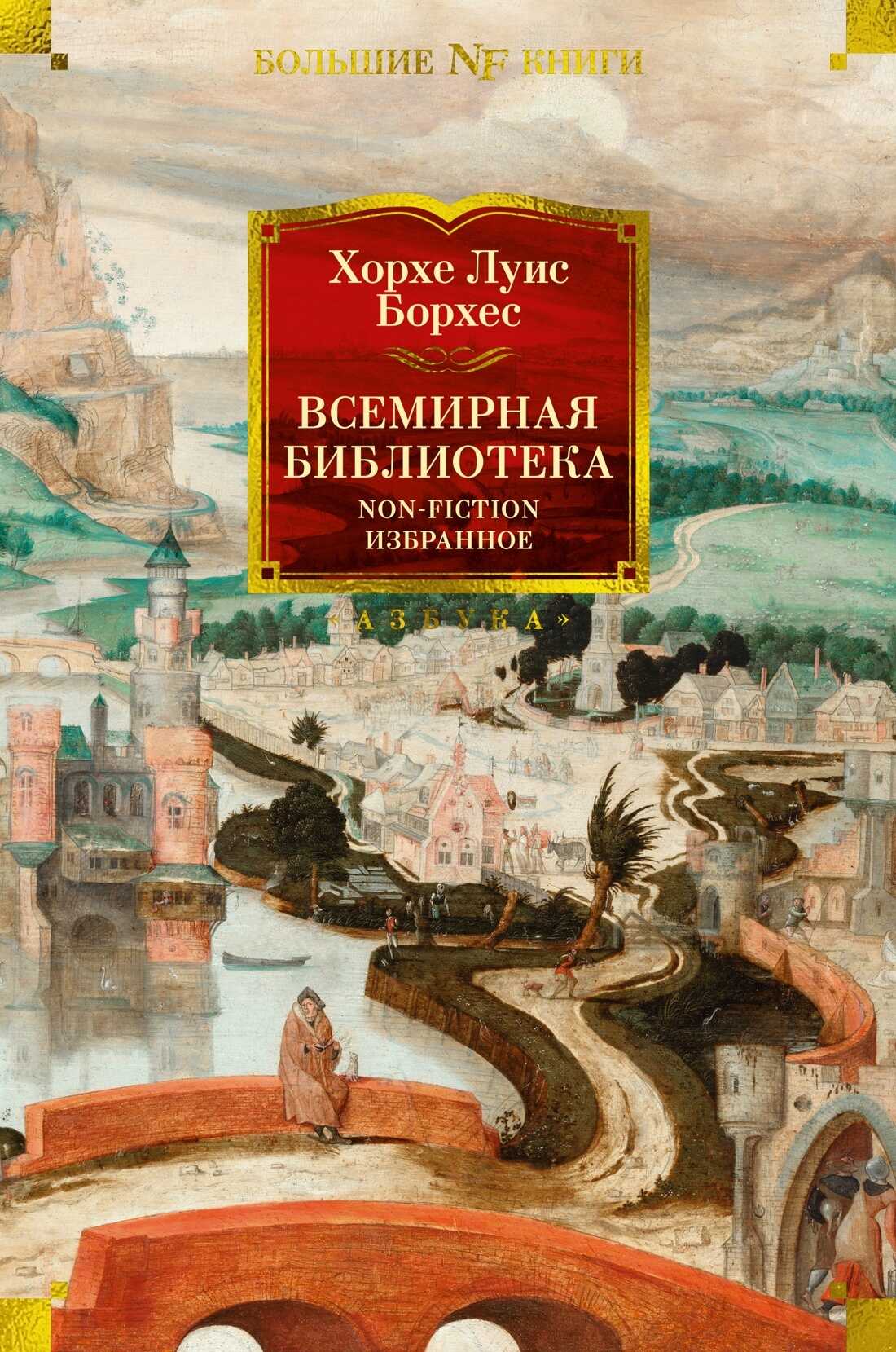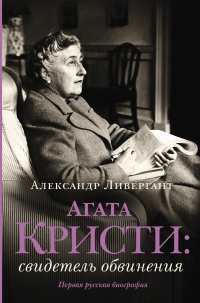Шрифт:
Закладка:
Книга Песка - это сборник рассказов от Хорхе Луиса Борхеса, одного из самых известных и влиятельных писателей XX века. В этой книге вы найдете 13 произведений, написанных в период с 1975 по 1983 годы. Это произведения, полные тайн и фантастических образов, чьи истоки следует искать в литературах и культурах прошлого. Борхес создает свои собственные миры, где границы между реальностью и вымыслом, между историей и легендой, между сном и бодрствованием становятся размытыми и неуловимыми. Он играет с читателем, заставляя его задуматься о смысле жизни, о природе времени, о возможности бесконечности.
Книга Песка - это книга для тех, кто любит интеллектуальную литературу, полную аллюзий и символов. Это книга для тех, кто хочет погрузиться в мир Борхеса, где все возможно и ничто не случайно. Это книга для тех, кто ценит глубину мысли и мастерство слова.