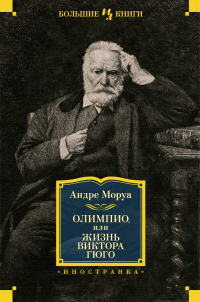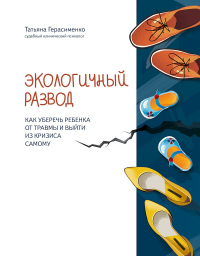Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
Андре Моруа, классик французской литературы XX века, подлинный мастер психологической прозы, прославился еще и как автор романизированных биографий Дюма, Бальзака, Жорж Санд и др. Одна из лучших его книг в этом жанре – «Олимпио, или Жизнь Виктора Гюго» – посвящена великому французу, оставившему неповторимый след в истории не только французской, но и европейской культуры. Прославленный поэт, драматург, прозаик, Виктор Гюго отважно ринулся в политику, стал пэром Франции, защитником отверженных и гонимых. За идеалы свободы и демократии он сражался на баррикадах, а затем почти двадцать лет провел в изгнании. Соотечественники считали Гюго совестью нации, недаром Ромен Роллан назвал его «Львом Толстым французской литературы». Андре Моруа с неподражаемым мастерством создает удивительно яркий портрет этого многоликого человека.
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Андре Моруа»: