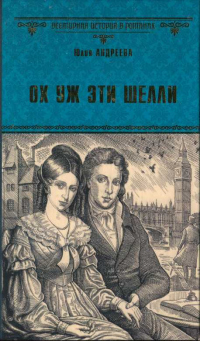Шрифт:
Закладка:
Гений кривомыслия. Рене Декарт и французская словесность Великого Века - это научное исследование от Сергея Владимировича Фокина. В этой книге вы узнаете о том, как философ Рене Декарт (1596-1650), автор знаменитого «Рассуждения о методе», сочетал в своем творчестве прямоту разума и литературное кривомыслие. Автор показывает, как Декарт вписывал свои идеи в политический, культурный, социальный, религиозный и биографический контексты XVII века, используя различные риторические и литературные приемы, характерные для эпохи барокко и классицизма, прециозности и галантности, либертинства и салонной культуры. Автор также прослеживает те линии мысли Декарта, которые нашли отражение в новейших интеллектуальных практиках – от психоанализа и деконструкции до исторической или экономической антропологии и философии перевода.
Гений кривомыслия. Рене Декарт и французская словесность Великого Века - это книга для тех, кто интересуется философией и литературой XVII века. Это книга для тех, кто хочет увидеть новый образ Декарта и его влияние на европейскую культуру. Это книга для тех, кто ценит глубину анализа и широту контекста.